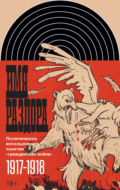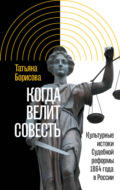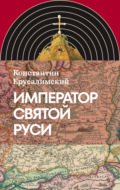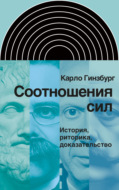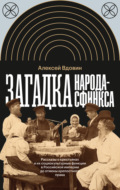Czytaj książkę: «История в чрезвычайном положении. Эссе о современном историческом сознании и практиках историописания»
© И. Кобылин, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Памяти моих родителей
Вместо введения 1
Момент кризиса: jurisdictio, gubernaculum и история
В самом начале своего фундаментального «Момента Макиавелли» (1975), посвященного приключениям ренессансной и нововременной республиканской теории, Джон Гревилл Агард Покок весьма подробно останавливается на трактате английского судьи и «философа-любителя» сэра Джона Фортескью «О похвале законам Англии», написанном в 1468–1471 годах. Как поясняет Покок, этот трактат позволяет нам лучше разобраться в ключевых идеях той эпохи, поскольку «он высказал их в несколько грубой форме»2. Покока прежде всего интересует характерная для политической мысли XV–XVI веков концептуализация напряжения между аристотелевско-христианским универсальным мировым порядком с его неизменными принципами, распространяющимися среди прочего и на политическое сообщество, и историей, понимаемой как сфера единичного, конкретного и случайного. Действительно, это напряжение проявляется у Фортескью в более чем наглядном виде.
Трактат построен как диалог между находящимися в изгнании принцем Уэльским и лорд-канцлером Англии. Лорд-канцлер пытается заинтересовать принца изучением английских законов. Если отвлечься от интересных, но слишком многочисленных для краткого пересказа подробностей, аргументы лорд-канцлера выглядят приблизительно следующим образом. Принцу не стоит беспокоиться по поводу сложности и запутанности английского законодательства: поскольку краеугольным камнем каждой науки является совокупность основных принципов (максим в математике, парадоксов в риторике, regula juris в гражданском праве), то, для того чтобы стать юридически грамотным правителем, достаточно ознакомиться с базовыми «максимами», на которых построены законы Англии, тем более что конкретными случаями применения законов будут заниматься юристы-профессионалы. Однако это не решает одной важной проблемы. Коренные принципы юриспруденции отсылают к универсальным положениям естественного права, очевидным для любого разумного человека. Основы справедливости одинаковы для всех: не может быть английской справедливости, французской или римской. И существенная часть английских законов тождественна естественному праву и, соответственно, универсально значимой части законодательства других стран. Однако универсальное существует не в абстрактной пустоте, а в конкретных обстоятельствах, различающихся между собой от страны к стране. Реализация универсального принципа в исторически и географически определенной действительности порождает уникальную для каждого народа правовую конфигурацию, где всеобщие естественные законы сочетаются со специфическими обычаями и статутами.
Обычаи отсылают не к разуму, а к опыту. Опыт в данном контексте – это некий «некритический», «неаналитический» инструмент, позволяющий рассуждать – пусть и «предположительным», как позже выразится Эдмунд Бёрк, образом – не об общем, а об особенном. Древность обычая всегда говорит в его пользу: чем дольше он существует, тем большим количеством людей он испытан и признан пригодным. Когда речь заходит о статутах, Фортескью пишет о «рассудительности», но рассудительность здесь явно ближе к опыту, чем к дедуктивным процедурам ratio. Вернее, рассудительность – это и есть способность использовать коллективный опыт прошлого, чтобы справиться с переменчивыми обстоятельствами, осторожно вводя необходимые новации, которые, в свою очередь, также должны быть в будущем проверены на опыте.
Как можно заметить, у будущего монарха не так-то много возможностей для суверенного политического жеста: за него правят, с одной стороны, универсальная рациональность закона, а с другой – мудрость обычая. Однако в этом идиллическом царстве всегда мог наступить такой момент, «когда неизвестность становилась полной, реакция требовалась мгновенная и управлять мог лишь один человек; монарх обретал абсолютную власть в том смысле, что его решения не были ограничены ни обычаем, ни советом, но они мгновенно не становились – ибо не могли стать – общими законами поведения»3. Этот момент и есть вторжение истории (как ее могла бы представить схоластическая мысль, если бы вообще интересовалась такими вещами), то есть вторжение случайного, конкретно-событийного, ускользающего от власти вечного, разумного и универсального. История, которую, как утверждает Покок, христианское мировоззрение всегда стремилось игнорировать, периодически дает о себе знать, «подвешивая» автоматизм естественного и позитивного законов. Пользуясь терминологией Карла Шмитта, ее можно представить как своего рода чрезвычайное положение, тестирующее правителя на подлинную суверенность.
Понятно, что речь пока не идет о формальной структуре, полностью замкнутой на фигуру суверена: он еще как бы делит свою суверенность с внешним – с самим событием. Именно оно нейтрализует действие правила, заставляя правителя реагировать. Покок, впрочем, и отсылает не к Шмитту, а к американскому историку Чарльзу Ховарду Макилвейну. В работе «Конституционализм: древность и современность» (1940), анализируя знаменитый трактат «О законах и обычаях Англии», составленный в середине XIII века судьей Генри де Брактоном, Макилвейн обращает внимание на проводимое там различие между jurisdictio и gubernaculum. Брактон пишет, что король держит в своих руках правление (gubernaculum) королевством. Ключевым фактором является то, что в этом правлении у него нет «равных» и уж тем более нет того, кто стоял бы над ним. Никто, даже судья, не может поставить под вопрос конкретный королевский акт, то есть усомниться в его законности. Король обладает всеми юридическими полномочиями, необходимыми для эффективного правления4. Gubernaculum – это и есть подлинно суверенное искусство управления, уникальный – не находящий поддержки ни в законе, ни в опыте – ответ на контингентность уникального исторического события.
И, как показывает Покок, перед республикой – и, в частности, перед реальными итальянскими республиками Ренессанса – встала примерно та же проблема. Все последующие размышления Покока о флорентийской ренессансной политической мысли и ее позднейшей рецепции – это размышления о том, как эта мысль пыталась приручить историю. Вернее, как она пыталась научиться жить в среде, отрефлексированной в качестве исторической. Как, используя почтенную аристотелевскую традицию политической мысли, выстроить надежный заслон против непредсказуемых случайностей времени – вот ключевая задача, по-разному решаемая Бруни, Гвиччардини, Макиавелли и другими гуманистами. Постепенно история из внешнего вызова превращалась в сущность самой политики – эта инверсия заметна уже у Гвиччардини5.
История и диктатура
Почти полвека спустя Карл Шмитт в Предисловии к «Диктатуре» (1921) кратко перечисляет «возможности для ее (диктатуры. — И. К.) понятия» исходя из различных определений нормы – ведь чтобы разобраться с природой исключительного случая, необходимо учитывать тот порядок, из которого он исключается6. Шмитт анализирует эти возможности на материале актуальных на тот момент марксистских споров о том, как следует понимать диктатуру пролетариата7. Итак, он пишет, что если норма трактуется в государственно-правовом смысле, то диктатура должна пониматься как отмена правового государства. Шмитт различает здесь две возможные формы такого упразднения – диктатура как исключение из либеральных принципов (диктатурой считается любое нарушение неотчуждаемых прав человека, даже если такое нарушение санкционировано большинством) и диктатура как исключение из демократических принципов (любое действие власти, не санкционированное большинством, – это диктатура).
Среди социалистов эту последнюю трактовку диктатуры разделял Карл Каутский. Критически воспринявший большевистскую революцию, он видел в самом понятии диктатуры пролетариата противоречие в терминах: диктатура – это всегда упразднение демократии, а значит,
единовластие одного лица, не связанного никакими законами, одновластие (самодержавие), которое отличается от деспотизма лишь тем, что оно не постоянное государственное учреждение, но средство преходящее, вызванное обстоятельствами8.
Согласно Каутскому, Маркс, рассуждая о диктатуре пролетариата как о переходной форме, не имел в виду буквальное значение термина «диктатура». Более того, он вообще не подразумевал форму правления. По Каутскому, у Маркса речь идет о некоем «состоянии», к которому люди перейдут там, где пролетариат одержит победу. При этом важно помнить, что в индустриально развитых, передовых странах – в Англии и Америке – этот переход вполне может осуществиться мирным, а значит, уточняет Каутский, демократическим путем. Да и сама «диктатура» пролетариата, если все же рассматривать ее как определенный тип правительства, – это форма радикальной демократии. Да, Маркс не написал об этой диктатуре отдельной работы и не оставил четкого, недвусмысленного ее определения, но ничто не мешает нам обратиться к тем его текстам, где речь идет о концептуализации реальных исторических прецедентов, позволяющей примерно представить направление его мысли по этому вопросу. Как несложно догадаться, Каутский обращается к «Гражданской войне во Франции» (1871), где Маркс по горячим следам осмысляет опыт Парижской Коммуны. В предисловии к третьему изданию этой работы Энгельс прямо пишет, что Коммуна – это один из первых исторических примеров настоящей диктатуры пролетариата. Соглашаясь с Энгельсом, Каутский подчеркивает, что в своем разборе Маркс делает акцент на предельно демократическом характере этой «диктатуры»:
Маркс все время говорит о всеобщем избирательном праве, о праве всего народа, а не об избирательном праве одного какого-нибудь привилегированного класса. Диктатура пролетариата была <…> состоянием, которое необходимо вытекает из чистой демократии <…>9.
И если некие силы, объявившие диктатуру пролетариата, подавляют от ее имени всякую оппозицию, лишают оппозиционные движения политических прав, ограничивают свободу печати и собраний, то они не должны ссылаться на Маркса. Кроме того, диктатура класса в принципе невозможна: она непременно и в самые короткие сроки превратится в диктатуру пролетарской партии, а значит, одна часть пролетариата будет господствовать над другой.
С высоты сегодняшнего дня, зная, чем в итоге кончился большевистский революционный эксперимент, можно лишь отдать должное прозорливости Каутского и согласиться с его выводами. Однако в 1920 году все было не так очевидно. Сама пролетарская революция в стране, где промышленный пролетариат составлял менее 2 % населения (а с точки зрения Каутского, количественный показатель в этом вопросе является первостепенным: господство пролетариата будет демократичным лишь там, где «он представляет из себя массу, имеет за собой большинство населения»), была рискованной ставкой. Но это именно ставка. Столь же рискованной – и в конечном счете проваленной – была сознательная ставка на классовую диктатуру. Лукач в заслуженно знаменитой статье «Большевизм как моральная проблема» (1918) сформулировал это так: должны ли мы воспользоваться подвернувшимся шансом и установить жесткую пролетарскую диктатуру с применением террора, продолжая верить, что она в будущем упразднит саму себя и всякое господство вообще, или же терпеливо ждать, пока общество в целом созреет для демократического перехода к новому укладу, идя на идейный компромисс с буржуазными партиями и рискуя вообще потерять из виду конечную цель? Лукач указывает, что «любая позиция таит в себе возможности ужасных преступлений и не поддающихся измерению аберраций, и тот, кто собирается принимать решение в любом направлении, с полным сознанием и ответственностью должен отдавать себе в этом отчет»10. Необходимо заметить, что сам Лукач именно в этой статье выбирает второй вариант – путь долгого демократического воспитания масс, но для него любой выбор между двумя возможными решениями – это вопрос веры. Ничего не предрешено, более того – ставка на диктатуру как раз кажется более рациональной, «научной», ведь история, согласно марксистской науке, движется через посредство жестоких классовых битв.
В общем, в конкретных исторических условиях только что победившей революции опасения Каутского были не более чем опасениями. Шмитт, анализируя его полемику с Лениным, Троцким и Радеком, полагает, что критическая реакция последних вполне оправдана: действительно, сама по себе диктатура не цель, а техническое средство, позволяющее достичь будущего царства свободы. Соответственно, ее необходимо рассматривать не только в государственно-правовом, но и в политическом аспекте. И если подлинной нормой является этот будущий, еще не осуществленный идеал, то настоящая диктатура – это то, что ему противостоит, то есть сопротивляющийся буржуазный строй. А поскольку речь идет о напряжении между настоящим (которое пока не стало прошлым) и будущим, то есть об истории, то юридические понятия нормы и исключения из нее должны приобрести еще и статус философско-исторических.
И далее Шмитт разворачивает головокружительную историческую диалектику, свернутую в марксистском учении о диктатуре пролетариата. История – это закономерный процесс, в котором закономерность обеспечивается логикой экономических преобразований. Экономические условия для перехода к новой формации должны «естественным» образом созреть. Но этого недостаточно. Шмитт – как и параллельно с ним Лукач – всячески подчеркивал гегельянский момент в философии истории Маркса11. В «Духовно-историческом состоянии современного парламентаризма», вышедшем в том же году, что и лукачевская «История и классовое сознание» (1923), Шмитт, размышляя о марксизме, делает акцент на унаследованном им от гегелевского рационализма принципе самогарантии (Selbstgarantie): «Конструкция исходит из того, что развитие всегда означает возрастающее сознание и усматривает в собственной уверенности этого сознания доказательство того, что оно правильно»12. Экономические условия должны не просто созреть, но и быть осознаны (опознаны) в качестве таковых. Причем степень их познанности говорит и о степени их уже-принадлежности прошлому, ведь по-настоящему познать можно только отжившее: «То, что эпоха схвачена в человеческом сознании, представляет для исторической диалектики доказательство того, что исторически с познанной эпохой покончено»13. Именно этим, по Шмитту, были обусловлены столь настойчивые экономические штудии философа Маркса: ставка здесь не академическая, а революционная. Экономика, долгое время бывшая скрытым фундаментом исторической событийности, в буржуазные времена выходит на поверхность. Однако, будучи медиумом буржуазии, она именно в силу этого остается непрозрачной для буржуазной политэкономии. Буржуазия буквально жива своим незнанием, своей слепотой по отношению к истинному состоянию дел. Если же удастся, наконец, разобраться, как именно работает капиталистическая экономика, это и станет свидетельством начала ее исторического конца.
Правда, к унаследованному гегельянству Маркс отнесся весьма избирательно. Для Гегеля окончательная постижимость каждого принципа, несомого тем или иным историческим народом, и, главное, постижимость историко-логической взаимосвязи этих принципов возможны только в конце истории вообще. Если история, понятая как история разума, не закончилась, если возможно появление нового субъекта (нового исторического народа с новым принципом), та конкретизация свободы, которая им осуществляется, должна поставить под вопрос и сам характер исторической связи между предыдущими ступенями, а значит, эта связь должна быть помыслена иным, негегелевским способом. Гегелевская версия тогда утвердилась бы в качестве одной из преходящих попыток понять эту связь. И, соответственно, нельзя даже будет сказать, что гегелевская философия останется «в снятом виде», поскольку само понятие «снятия» – гегелевское. А новый принцип, если он действительно новый, потребует совершенно другой категориальной системы. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом – своего рода лентой Мёбиуса: следуя гегелевским же положениям, новый субъект обязан переосмыслить свои основания, отказавшись от гегелевской диалектики. Маркс же как раз и является таким гегельянцем, который хочет сохранить и метод, и открытый финал. Действительно, чаемое коммунистическое будущее может быть определено пока чисто негативно – как общество, где последний класс (пролетариат) разрушит себя вместе с классовой системой вообще. Да и сам пролетариат можно трактовать как чистую негативность. Малый апокалипсис исчерпавшей себя буржуазной культуры парадоксальным образом совершается в преддверии открытого и неопределенного будущего. Впрочем, стоит вспомнить, что Маркс называл докоммунистическую историю предысторией человечества, поэтому закат капитализма отмечает собой закат целого эона. А новый, собственно исторический период – это качественный скачок на принципиально другой уровень, сравнимый со скачком от природы к культуре и требующий, надо полагать, радикально новых способов мышления. Но здесь мы вновь возвращаемся к заколдованному (герменевтическому) кругу. Если эти способы действительно новые, то они неизбежно историзируют Марксов метод, и хорошо еще, если в качестве абстрактно-одностороннего, а не полностью ложного: то, что прогноз осуществился, еще не означает, что он осуществился вследствие именно тех закономерностей, которые этот прогноз полагал в качестве своего основания.
Если свидетельства исторической обреченности буржуазии получены, то чем будет тогда продолжающееся ее господство? Диктатурой, приостанавливающей действие уже не юридических, а исторических законов. Буржуазия объявляет истории чрезвычайное положение, тормозя, замедляя ее поступательное движение, обрекающее господствующий до поры до времени класс на гибель. Речь буквально идет о «внешнем вмешательстве», в ответ на которое пролетариат устанавливает свою диктатуру, призванную устранить «механическое препятствие» на своем пути:
…Пролетариат <…>, поскольку это «исторически восходящий класс», имеет право применить в отношении исторически нисходящего класса любое насилие, какое покажется ему целесообразным в интересах исторического развития. Тот, кто стоит на стороне грядущего, имеет право подтолкнуть то, что и без того уже падает14.
Метаморфозы понятий и «переворачивание» истории
Артемий Магун, разбираясь в небольшой научно-популярной книге с нынешними и прошлыми представлениями о демократии, обратил внимание на то, что практически все ключевые западные политические понятия в эпоху Нового времени изменили свое значение, – вернее, не просто изменили, а поменяли на противоположное. Так, «революция» из циклического обращения небесных тел превратилась в необратимое событие новой политической начинательности (если уместно здесь воспользоваться термином Ханны Арендт). «Репрезентация» из обозначения «присутствия» (приставка ре-, как поясняет Магун, указывает здесь не на повторение, а на усиление) трансформируется в обозначение присутствия-в-отсутствии, то есть присутствия, опосредованного представителем. Наконец, и сама «демократия» претерпевает радикальные семантические изменения: будучи в Античности одной из форм правления (наряду с монархией и аристократией), причем формой скорее опасной, чреватой анархическими эксцессами, она вдруг становится именем универсального политического идеала, заодно апроприируя выборы как исконно присущую ей и только ей процедуру.
Магун объясняет эти странные на первый взгляд метаморфозы понятий их внутренне диалектической природой. Каждое из них, фиксируя поначалу только одну сторону явления, остается абстрактным. Но как только более глубокий анализ, не удовлетворяясь повторением знакомого, выявляет другие его стороны, понятие начинает, если воспользоваться выражением Гегеля, рефлектировать в себя, обнаруживая свою куда более сложную, чем казалось ранее, сущность. Магун пишет об этом так:
Естественно, что в процессе рефлексии понятия зачастую «переворачиваются»: подавленная и противоположная предпосылка выходит на первый план в момент кризиса. Предпосылка, от которой понятие отталкивалось и даже идеологически дистанцировалось, вдруг выходит наружу как его скрытая истина15.
Примерно та же самая историческая трансформация произошла и с понятием истории. Как несложно заметить, ситуация 20-х годов XX века – это полная инверсия ситуации века XV: если в раннемодерный период история объявляет «чрезвычайное положение» естественному и позитивному законам, то в буржуазную эпоху, наоборот, оно уже объявляется законам самой истории. Диалектическое переворачивание налицо: то, что подрывало Закон, само стало Законом.
Новые вызовы чрезвычайного
Этот период между двумя «чрезвычайными положениями» – время рождения модерного, «девелопментального» (по выражению Марка Бевира) историзма – историзма, который, будучи уже основательно потрепанным в XX веке, вновь входит в турбулентную зону чрезвычайного. Непоколебимые законы истории даже в марксистском дискурсе уступают место алеаторному брожению контингентного, современность квалифицируется как неравная самой себе, пронизанная инаковостью и анахронией, а универсализм тематизируется только в качестве негативного универсализма катастрофы (антропоцен, хтулуцен, капиталоцен и другие – цены). Даже конец истории, мыслившийся Фрэнсисом Фукуямой в виде триумфального освобождения, рассматривается сегодня скорее как «история без конца», бессмысленное дление одного и того же, нескончаемая итерация капиталистических циклов, лишенная фазовых переходов в новое качество. История, лишившаяся Закона, коллапсирует в серую зону, где уже неразличимы ее модальности – прошлое, настоящее и будущее.
Статьи, собранные в этой книге, так или иначе откликаются на те вызовы чрезвычайного, с которыми сталкивается современное историческое сознание вообще и профессиональное историописание в частности. В первой части речь пойдет о современных теоретических вызовах – критической теории анахронизма, попытках заменить историю широко понятой медиатеорией, новой синхронизации мировой истории через посредство климатической катастрофы, аффективных реконструкциях прошлого и других теоретических сюжетах. Вторая часть посвящена анализу «провиденциальной машины» историзма, ее «улаживающе-слаживающей» (Мартин Хайдеггер) механике, где суверенно-децизионистский полюс всегда уравновешивается полюсом экономически-гувернаментальным, или управленческим. Статьи, составившие третью часть, группируются вокруг проблемы наследия и его апроприации. В них на позднесоветском, перестроечном и постсоветском материале исследуется коллапс истории как артикулированной и актуально (и потенциально) конфликтной человеческой деятельности в дезактивированный «культурно-исторический багаж». Чрезвычайное в этом дизъюнктивном синтезе звучит негромко, но не перестает при этом быть чрезвычайным.
Я благодарен коллегам, которые проявляли интерес к моей работе и были первыми моими читателями, слушателями, редакторами и критиками: без их дружеской помощи статьи, из которых составлена эта книга, никогда не были бы написаны. Выражаю признательность Кириллу Кобрину, Андрею Олейникову, Федору Николаи, Илье Калинину, Евгению Савицкому, Петру Сафронову, Роману Сундукову, Денису Скопину, Дмитрию Стрелкову, И. Б., Анне Егоровой, Александре Запольской, Марии Сидоровой, Николаю Поселягину, Яну Левченко, Александру Павлову, Владу Третьякову, Виктору Мизиано, Владиславу Дегтяреву, Валентине Мордерер, Анатолию Корчинскому, Андрею Тесле, Александру Курицыну, Александру Мордвинову. Особая благодарность – редакторам серии «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение» Тимуру Атнашеву и Михаилу Велижеву. Я также благодарю Светлану Липатову, без чьей постоянной помощи и поддержки эта книга никогда бы не появилась.
Первые варианты собранных здесь статей публиковались в журналах «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», «Логос», «Художественный журнал», «Социология власти» и «Социологическое обозрение».