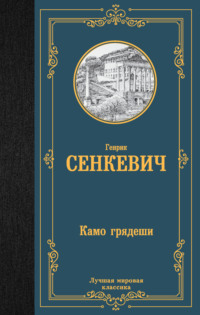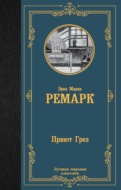Czytaj książkę: «Камо грядеши»
Henryk Sienkiewicz
QUO VADIS
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Часть первая
I
Петроний проснулся около полудня и, как всегда, чувствовал себя очень усталым. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся далеко за полночь. За последнее время здоровье его стало ухудшаться. Он замечал сам, что по утрам просыпается изнуренный и не в силах собрать мыслей. Но утренняя ванна и тщательный массаж всего тела при помощи приученных к этому рабов постепенно возвращали ленивой его крови жизнь, и она быстрее текла по его жилам, будила его, придавала бодрость и силу, – так что после натирания благовонным маслом, последней стадии утреннего туалета, он словно воскресал окончательно; глаза его блестели остроумием и весельем, он молодел, исполненный жизни, изящный и несравненный, так что сам Оттон не мог соперничать с ним, – словом, он был подлинный, как его называли, «arbiter elegantiaram»1.
В общественных банях он бывал редко: лишь в том случае, если там выступал какой-нибудь удивительный ритор, о котором все говорили в городе, или когда в эфебеях2 происходили исключительно интересные состязания. В его доме были свои бани, которые знаменитый Целер, товарищ Севера, перестроил для него, расширил и отделал с таким вкусом, что даже сам Нерон признавал их превосходство над цезарскими, хотя те и были значительно больше и несравненно пышнее.
И вот после пира, на котором он, заскучав от шутовских выходок Ватиния, затеял беседу с Нероном, Сенекой и Луканом о том, имеет ли женщина душу, – теперь поздно встал и принимал обычную утреннюю ванну. Потом два сильных банщика положили его на кипарисном столе, покрытом белой египетской тканью, и, смочив руки в благовонном масле, стали растирать его холеное тело. С закрытыми глазами лежал он и ждал, пока теплота масла и горячих ладоней рабов не перейдет в него и не развеет усталости.
Немного спустя он заговорил, открыв глаза, и стал расспрашивать про погоду, потом о геммах, которые ювелир Идомен обещал прислать сегодня к нему на дом для осмотра…
Оказалось – погода прекрасная при легком ветре с Альбанских гор, а геммы не присланы еще. Петроний снова закрыл глаза и велел перенести себя в тепидарий3; из-за занавеса показался раб и доложил, что молодой Марк Виниций, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть его.
Петроний велел провести гостя в тепидарий, куда был перенесен и сам. Виниций был сын его старшей сестры, вышедшей за Марка Виниция, консулария времен Тиберия. Молодой Марк служил в настоящее время под начальством Корбулона и воевал против парфян, и теперь, после окончания войны, вернулся в Рим. Петроний чувствовал к нему некоторую слабость, похожую на любовь, – Марк был красивый, атлетически сложенный юноша, и в то же время он умел сохранять известную эстетическую меру в проявлениях римской испорченности, а это Петроний ценил выше всего.
– Привет Петронию! – сказал молодой человек, легкими шагами входя в тепидарий. – Пусть все боги будут благосклонны к тебе, а в особенности Асклепий и Киприда, – под их двойной опекой ничто дурное не может тебя встретить.
– Привет тебе в Риме, и пусть будет сладок твой отдых после войны, – ответил Петроний, протягивая руку из складок мягкой ткани, в которую был завернут. – Что слышно в Армении? Живя в Азии, не побывал ли ты в Вифинии?
Петроний был когда-то правителем этого города и, что удивительно, правил умело, энергично и справедливо. Это было в противоречии с характером человека, известного своей изнеженностью и любовью к роскоши. Потому-то он любил вспоминать те времена, что его успешное управление служило показателем, чем он мог бы и сумел бы стать, если бы ему этого захотелось.
– Мне случилось побывать в Гераклее, – ответил Виниций. – После меня Корбулон собирал там вспомогательные войска.
– А, Гераклея!.. Я знал там девушку из Колхиды, за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Поппеи. Но это старые истории. Скажи лучше, что слышно у парфян? Мне надоели, сказать правду, все эти Вологезы, Тиридаты, Тиграны и прочие варвары, которые, по уверению молодого Арулена, ходят у себя дома на четвереньках и лишь в нашем присутствии стараются быть похожими на людей. Теперь о них много говорят в Риме, хотя бы потому, что говорить о чем-то другом опасно.
– Война идет без успеха, и если бы не Корбулон – легко могла бы стать нашим поражением.
– Корбулон! Клянусь Вакхом, он подлинный бог войны, настоящий Марс: великий полководец, дикий, вспыльчивый и глупый. Люблю его хотя бы за то, что Нерон боится его.
– Корбулон – не глупый человек.
– Может быть, ты и прав, а впрочем, это безразлично. Глупость, говорит Пиррон, нисколько не хуже мудрости и ничем не отличается от нее.
Виниций стал рассказывать о войне, но, заметив, что Петроний закрыл глаза, молодой человек переменил тотчас тему разговора и, видя перед собой усталое осунувшееся лицо друга, стал с беспокойством расспрашивать его о здоровье.
Петроний снова открыл глаза.
Здоровье?.. Плохо. Он не чувствует себя здоровым. Правда, он не дошел до состояния, в каком находится молодой Сиссен, который до такой степени перестал ощущать окружающее, что, когда его переносят в баню, он спрашивает: «Я сижу или лежу?» Но Петроний все же чувствует себя больным. Виниций отдал его под покровительство Асклепия и Киприды. Но он не верит в Асклепия. Неизвестно даже, чьим он был сыном, этот Асклепий, – Арсинои или Корониды? А если нельзя точно назвать матери, то что же говорить об отце! Кто в настоящее время может быть уверен даже в своем отце!
Петроний засмеялся и продолжал:
– Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр щедрый дар, но знаешь, почему я сделал это? Я сказал себе: поможет, не поможет, – во всяком случае, не повредит. Если вообще люди приносят еще жертвы, то, думаю, они рассуждают так же, как я. Все, за исключением разве погонщиков мулов, которые поджидают путешественников у Капенских ворот! Кроме Асклепия я имел также дело и с его жрецами, когда в прошлом году у меня разболелся мочевой пузырь. Они совершили инкубацию4 ради моего выздоровления, я же, хотя и знал, что они обманщики, говорил себе: разве это мне повредит? Мир стоит на обмане, жизнь – пустое самообольщение. Такое же самообольщение и наша душа. Но нужно иметь настолько ума, чтобы отличить обольщение приятное от неприятного. В моей уборной я велю жечь кедровые дрова, посыпая их амброй, потому что предпочитаю благоухание вони. Что касается Киприды, которой ты поручил меня, то я достаточно почувствовал на себе ее покровительство, испытывая стрельбу в правой ноге. Впрочем, эта богиня не злая! Думаю, что и ты рано или поздно отнесешь к ее алтарю белых голубей.
– Да, – сказал Виниций, – меня не достали стрелы парфян, но нежданно ранил дротик Амура, и это случилось недалеко от ворот Рима.
– Клянусь белыми ножками харит5, что ты расскажешь мне об этом на досуге, – сказал Петроний.
– Я пришел, чтобы просить у тебя совета, – ответил Марк.
В это время вошли банщики, которые и занялись Петронием, а Марк, следуя приглашению Петрония, сбросил с себя тунику и погрузился в теплую ванну.
– Я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, – говорил Петроний, разглядывая молодое, словно высеченное из мрамора, тело Виниция. – Если бы тебя увидел Лисипп, то ты украшал бы теперь ворота Палатина в качестве статуи юного Геркулеса.
Молодой человек улыбнулся и, довольный, стал плескаться в ванне, разбрызгивая желтую воду по мозаике, изображавшей Геру в то мгновение, когда она просит Морфея усыпить Зевса. Петроний рассматривал его восхищенным взором художника.
Когда Марк кончил купаться и перешел в распоряжение банщиков, вошел чтец с бронзовым ящиком, наполненным свитками.
– Хочешь послушать? – спросил Петроний.
– Если это твое произведение, то охотно, – ответил Виниций, – если же нет, то предпочитаю беседовать. Поэты ловят теперь слушателей на всех перекрестках.
– Да, да! Нельзя пройти мимо базилики, мимо бань, библиотеки или книжной лавки, чтобы не увидеть жестикулирующего, как обезьяна, поэта. Агриппа, приехавший с Востока, принял их за сумасшедших. Но теперь такое время. Цезарь6 пишет стихи, поэтому все делают это. Но нельзя писать стихов лучших, чем пишет цезарь, поэтому я немного боюсь за Лукана… Но я пишу прозой, которой не угощаю, впрочем, ни себя ни других. Чтец должен был читать записки бедняги Фабриция Вейентона.
– Почему «бедняги»?
– Потому что ему велено сидеть в Одиссе и не возвращаться к домашнему очагу впредь до нового распоряжения. Эта «одиссея» будет ему лишь постольку легче, чем настоящему Одиссею, поскольку жена его не похожа на Пенелопу. Не нужно говорить тебе, что все это очень глупо. Но здесь никто не задумывается глубоко. Это довольно посредственная и скучная книга, которую стали жадно читать тогда лишь, когда автор был изгнан. Теперь отовсюду слышится: «Скандал! Скандал!» – возможно, что Вейентон кое-что приврал, но я хорошо знаю наших отцов и наших женщин и уверяю тебя, что все это бледнее, чем в действительности. Каждый ищет со страхом себя в этих записках и с тайной радостью – своих друзей. В книжной лавке Авируна сто писцов пишут под диктовку – успех книги обеспечен!
– На тебя намеки там есть?
– Да, но автор промахнулся, потому что я в одно и то же время и хуже и менее пошл, чем он представил меня. Мы здесь давно потеряли сознание того, что хорошо и что дурно, – и мне порой, право же, кажется, что между этими понятиями вообще нет разницы, хотя Сенека, Музоний и Трасей притворяются, что видят ее. Мне это безразлично. Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю! Но я сохранил за собой одно преимущество, я знаю, что безобразно и что красиво, а этого хотя бы наш меднобородый поэт, наездник, певец, танцор и лицедей не понимает.
– Мне жаль Фабриция! Он был прекрасный товарищ.
– Его погубило самолюбие. Все его подозревали, но никто не знал наверняка, а он сам не мог удержаться и говорил всем о своем авторстве под величайшим секретом. Ты слышал об истории Руфина?
– Нет.
– Перейдем в прохладную комнату, мы там остынем, и я расскажу ее тебе.
Посреди фригидариума7 светло-розовый фонтан разносил запах фиалок.
Усевшись в нишах на шелковых простынях, они остывали. Некоторое время молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, перегнув к себе через плечо нимфу, жадно искал губами ее губ. Потом он сказал:
– Этот фавн прав. Вот лучшее в жизни.
– Приблизительно! Но ведь кроме этого ты любишь еще войну, которой я не люблю, потому что в походных шатрах ногти ломаются и перестают быть розовыми. Впрочем, у каждого свое пристрастие. Меднобородый8 любит пение, особенно свое собственное, а старый Скавр – свою коринфскую вазу, которую он целует, если не может заснуть. Края этой вазы уже лоснятся от его поцелуев. Скажи, ты не пишешь стихов?
– Нет, я не написал ни одного гекзаметра.
– И не играешь на лютне? Не поешь?
– Нет.
– На колеснице ездишь?
– Когда-то состязался в Антиохии, но без особого успеха.
– Тогда я спокоен за тебя. К какой партии принадлежишь в цирке?
– К зеленым.
– В таком случае я могу окончательно успокоиться. Хотя у тебя большое состояние, но все же ты не так богат, как Сенека и Палладий. Потому что у нас теперь хорошо: писать стихи, петь под аккомпанемент лютни, декламировать и состязаться на ипподроме, но еще лучше и, главное, безопаснее: не писать, не петь, не состязаться. Лучше всего удивляться, как искусно все это делает Меднобородый. Ты красив, и тебе может быть опасной Поппея, если влюбится в тебя. Но она слишком опытна в этом. Достаточно узнала любовь, будучи два раза замужем; в третьем браке ее интересует нечто иное. Знаешь, этот глупый Оттон безумно влюблен в нее до сих пор… Бродит в Испании по скалам и тяжело вздыхает; утратил свои старые привычки и перестал заботиться о своей наружности настолько, что теперь у него на прическу уходит лишь три часа в день. Кто бы мог ожидать этого от Оттона?
– Я понимаю его, – ответил Виниций. – Но на его месте я сделал бы нечто иное.
– Что же именно?
– Собрал бы верные себе легионы из тамошних горцев. Иберийцы – великолепные солдаты!
– Виниций, Виниций! Мне думается, что ты не был бы способен на это. И знаешь почему? Потому что такие вещи делают, но о них не говорят, даже условно. А я на его месте смеялся бы над Поппеей, смеялся бы над Меднобородым и собирал бы легионы не иберийцев, а ибериек. Самое большее – писал бы эпиграммы, которых, впрочем, не читал бы никому, как это делал бедный Руфин.
– Ты хотел мне рассказать о нем.
– Расскажу в унктуарии9.
Но и там внимание Виниция было отвлечено прекрасными рабынями, которые ожидали их. Две из них, негритянки, похожие на великолепные статуи из черного дерева, стали натирать тела патрициев аравийскими благовониями, другие, искусные фригийки, держали в мягких и гибких, как змеи, руках полированные стальные зеркала и гребни; две божественно прекрасные гречанки ждали минуты, когда они смогут правильно сложить складки на тогах своих господ.
– Клянусь Зевсом Громовержцем, – воскликнул Марк Виниций, – у тебя великолепный выбор.
– Я предпочитаю качество количеству, – ответил Петроний. – Моя «фамилия» в Риме не превышает четырех сотен голов, и я полагаю, что для личных услуг только выскочки нуждаются в большем числе.
– Более прекрасных девушек не имеет даже Меднобородый, – раздувая ноздри, говорил Виниций.
На это Петроний добродушно сказал:
– Ведь ты мой родственник, кроме того, я и не так истаскан, как Басе, и не такой педант, как Авл Плавтий.
Виниций, услышав последнее имя, забыл тотчас о прекрасных гречанках и оживленно спросил:
– Почему тебе пришел на ум Авл Плавтий? Знаешь, я повредил себе руку недалеко от Рима и принужден был провести несколько дней в его доме. Случайно он приехал туда и, видя мои страдания, оставил меня у себя, а его раб Мерион, врач, вылечил мою руку. Я об этом и хотел поговорить с тобой.
– О чем же? Уж не влюбился ли ты в Помпонию? В таком случае мне жаль тебя: она немолода и добродетельна! Не представляю себе худшего сочетания. Брр…
– Увы! Не в Помпонию! – ответил Виниций.
– В кого же?
– О если бы я знал! Я даже хорошо не знаю, как ее зовут: Лигия или Каллина. В доме ее зовут Лигией, потому что она родом лигийка, но ее варварское имя – Каллина. Странный дом Плавтиев. Людей много, и тихо, как в рощах Субиакума. В продолжение нескольких дней я даже не подозревал, что живет там богиня. Однажды на рассвете увидел я ее, когда она мылась у фонтана в саду. Клянусь той пеной, из которой вышла Афродита, что свет зари пронизывал ее тело насквозь. И я подумал, что, когда солнце взойдет, она растает в лучах, как тает утренняя заря. Потом я видел ее два раза, и с тех пор не знаю покоя, нет у меня другого желания, не хочу смотреть на Рим, не хочу женщин, золота, коринфской бронзы, янтаря, жемчугов, вина, пиров, ничего, – хочу лишь ее одну: Лигию. Я говорю тебе искренне, Петроний, что тоскую по ней, как тосковал изображенный на мозаике в твоей бане Морфей по Пасифее… Я тоскую по ней и днем и ночью…
– Если она рабыня, то купи ее.
– Нет, она не рабыня.
– Кто же? Вольноотпущенница?
– Не была рабыней – как может она быть вольноотпущенницей?
– Кто же?
– Не знаю: царская дочь или что-то в этом роде.
– Ты возбуждаешь мое любопытство, Виниций!
– Если хочешь выслушать меня, я тотчас удовлетворю его. История не слишком длинная. Ты, вероятно, знал Ванния, изгнанного короля свевов10, который долго жил в Риме и стал даже знаменит своей счастливой игрой в кости и богатством. Цезарь Друз вернул ему трон. Ванний был человек сильный, сначала правил хорошо, удачно воевал, но потом стал драть шкуру не только с соседей, но и со своих свевов. Тогда Вангий и Сидон, его племянники, сыновья Вибилия, царя германдуров11, решили принудить его снова отправиться в Рим… испытывать счастье в игре в кости.
– Помню, помню, это было недавно, во времена Клавдия.
– Да! Вспыхнула война. Ванний призвал на помощь язигов12, а его племянники – лигийцев, которые, заслышав о богатстве Ванния, жадные до добычи, прибыли в таком громадном количестве, что сам цезарь Клавдий стал беспокоиться за целость своих границ. Цезарь не хотел вмешиваться в борьбу варваров, однако он написал Ателию Гистру, вождю дунайских легионов, чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не допустил нарушения мира у нас. Тогда Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить наших границ, на что те согласились и даже дали заложников, в числе которых были жена и дочь их вождя… Ты ведь знаешь, что варвары берут с собой в поход своих жен и детей… Так вот моя Лигия и есть дочь этого вождя.
– Откуда ты все это знаешь?
– Мне рассказал об этом сам Авл Плавтий. Лигийцы действительно тогда не перешли границы, но ведь варвары налетают как ураган и так же быстро исчезают. Исчезли и лигийцы со своими турьими рогами на шлемах. Разбили полчища Ванния, и свевов и язигов, но в битве погиб их царь, а потом ушли с добычей, оставив заложников у Гистра. Мать вскоре умерла, а дочь была отослана к правителю Германии Помпонию, так как Гистр не знал, что ему с ней делать. Помпоний после окончания войны с коттами13 вернулся в Рим, где Клавдий, как тебе известно, позволил ему устроить триумф. Девушка шла за колесницей вождя, но после окончания торжества, так как заложницу нельзя было считать пленницей, и Помпоний, в свою очередь, недоумевал, что ему с ней делать; в конце концов, он поручил ее Помпонии Грецине, своей сестре, жене Плавтия. В доме, где все, начиная с господ и кончая цыплятами в курятнике, добродетельны, девушка стала – увы – такой же, как сама Помпония, и столь прекрасной, что даже Поппея в сравнении с нею кажется осенней фигой рядом с гесперидским яблоком.
– Итак, что же?
– Повторяю, что с мгновения, когда я увидел, как свет зари проницал ее тело насквозь, я влюбился в нее без памяти.
– Значит, она так же прозрачна, как молодая сардинка?
– Не шути, Петроний, и если тебя удивляет та легкость, с которой я говорю тебе о своем чувстве, то знай, что часто яркая одежда прикрывает глубокие раны. Должен тебе еще сказать, что, возвращаясь из Азии, я провел одну ночь в храме Мопса, чтобы увидеть вещий сон. И вот мне в сновидении явился сам Мопс и сказал, что в жизни моей произойдет большая перемена благодаря любви.
– Я слышал, как Плиний говорил, что он не верит в богов, но верит снам, – и, может быть, он прав. Мои насмешки не мешают мне иногда думать, что в самом деле существует некое единое божество, вечное, всемогущее и творческое, – Венера-Родительница. Она родит души, родит тела, родит весь видимый мир. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо это или плохо, но мы должны признать его могущество, хотя бы и не благословляли его…
– Ах, Петроний, легче в жизни услышать философию, чем добрый совет.
– Скажи мне, чего ты, собственно, хочешь?
– Хочу обладать Лигией. Хочу, чтобы мои руки, которые теперь обнимают воздух, обняли бы ее и могли прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Если бы она была невольницей, я дал бы за нее Авлу сто девушек с ногами, выбеленными мелом, в знак того, что их в первый раз вывели на продажу. Хочу иметь ее в своем доме до тех пор, пока моя голова не станет такой же белой, как вершина горы зимой.
– Она не рабыня, но все-таки принадлежит к дому Плавтия, а так как у нее нет родных, то ее можно считать невольницей. Плавтий мог бы уступить ее тебе, если бы захотел.
– Значит, ты не знаешь Помпонии Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней, как к собственной дочери.
– Помпонию я знаю. Подлинный кипарис. Если бы не была женой Авла, была бы великолепной похоронной плакальщицей. После смерти Юлии не снимает черных одежд, вообще у нее такой вид, словно при жизни она ходит по полям, покрытым асфоделями14. Кроме того, она «imivira» – женщина, имевшая только одного мужа, – и между нашими матронами, побывавшими в браке раз пять, может сойти за феникса. Кстати, слышал ли ты, говорят, феникс в самом деле возродился где-то в Верхнем Египте, что случается не чаще как один раз в пятьсот лет?
– Петроний, Петроний! Мы поговорим о фениксе когда-нибудь в другой раз.
– Что мне сказать тебе, мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, который, хотя и бранит мой образ жизни, все же питает ко мне некую слабость, может быть, даже уважает больше, чем других, потому что знает, что я не способен быть доносчиком, подобно Домицию Афру, Тигеллину и всей шайке друзей Агенобарба. Не выдавая себя за стоика, я, однако, не раз морщился от таких выходок Меднобородого, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу быть тебе чем-нибудь полезен у Авла, – я весь к твоим услугам.
– Думаю, что можешь. Ты имеешь влияние на него, твой ум необыкновенно остер. Если бы ты вник в положение, поговорил с Плавтием…
– У тебя преувеличенное мнение о моем влиянии и уме, но, если дело лишь за этим, я охотно поговорю с ним, как только они переедут в город.
– Они переехали два дня тому назад.
– В таком случае пойдем в триклиний15, где нас ждет завтрак, а потом велим себя отнести к Плавтию.
– Ты всегда был мне мил, – с живостью заговорил Виниций, – но теперь я велю поставить твое изображение среди моих домашних лар16, вот такое прекрасное, как это, и буду приносить ему жертвы.
И с этими словами он повернулся к стене, у которой стояли статуи, и показал рукой на изображение Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. Потом он прибавил:
– Клянусь светом Гелиоса, что божественный Парис был похож на тебя, поэтому нечего удивляться Елене.
И в этом возгласе слышалась неподдельная искренность, потому что Петроний хотя был старше и менее мускулист, но казался красивее Виниция. Женщины в Риме удивлялись не только его гибкому уму и вкусу, что давало Петронию право называться «arbiter elegantiarum», но также и его телу. И этот удивленный восторг отразился на лицах гречанок, которые приводили в порядок складки его тоги; одна из них, по имени Евника, была тайно влюблена в него и смотрела на него с обожанием и любовью.
Но он не обратил на это внимания и с улыбкой стал цитировать в ответ Виницию слова Сенеки о женщинах:
«Animal impudens»17, – и т. д.
Потом, обняв его, он повел Виниция в триклиний.
В бане гречанки, фригийки и негритянки стали убирать сосуды с благовониями. Но в ту же минуту из-за занавеса показались головы банщиков и раздалось тихое: «Псс!..» На этот призыв одна из гречанок, фригийки и обе негритянки тотчас исчезли за занавесом. В банях была минута полной свободы и разврата, чему не мешал надсмотрщик, и сам не раз принимавший участие в подобных похождениях. Догадывался об этом и Петроний, но, как человек великодушный и не любивший прибегать к наказаниям, смотрел на все сквозь пальцы.
В комнате осталась одна Евника. Некоторое время она прислушивалась к удалявшимся голосам и смеху, потом, подняв инкрустированную янтарем и слоновою костью скамью, на которой только что сидел Петроний, осторожно поставила ее перед его статуей.
Комната была залита солнечным светом, переливавшимся на многоцветном мраморе, которым были выложены стены.
Евника встала на скамью и вдруг закинула руки вокруг шеи статуи, отбросив назад золотые свои волосы, – прижимаясь розовым телом к белому мрамору, она с волнением прижала свои губы к каменным губам Петрония.