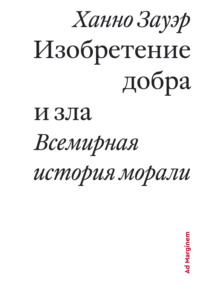Czytaj książkę: «Изобретение добра и зла. Всемирная история морали»
RES NOLUNT MALI ADMINISTRARI1
The translation of this work was supported by the Goethe-Institute, which is funded by the German Ministry of Foreign Affairs.
© 2023 by Piper Verlag GmbH, Munich/Berlin
© 2023 by Hanno Sauer
Published by arrangement with Gaeb & Eggers Literary Agency, Berlin.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026
Введение. Всё, что нам было важно
Позвольте рассказать вам историю. Будем ли мы еще любить друг друга, когда доберемся до ее конца?
Это долгая история, и она обо всём, что важно для нас: о наших ценностях, принципах, об истоках нашей идентичности и общности, о том, что нас сближает и делает врагами, о том, как мы судим других, как судят нас и в какой из этих ипостасей мы окажемся, проснувшись завтра.
Куда мы движемся? К какой жизни стремимся? Сумеем ли ужиться друг с другом? Насколько это удавалось нам в прошлом и удастся ли в будущем? Всё это вопросы, связанные с моралью, и история, которую я собираюсь рассказать, – о морали. Мораль для нас – что-то вроде уз и действия из-под палки, она ассоциируется с ограничением и самоотречением, инквизицией, покаянием и нечистой совестью, воздержанием и катехизисом, словом, это что-то безрадостное, клаустрофобное, с указующим перстом.
И это впечатление, в общем, нас не обманывает, просто оно неполное, и я постараюсь его восполнить. Мы проследим за фундаментальными моральными трансформациями человечества, начиная с самых далеких предков – даже еще не людей – в Восточной Африке и заканчивая новейшими конфликтами современного мира, которые возникают в мегаполисах и распростраются онлайн по поводу идентичности, неравенства, тирании и прерогативы истолковывать настоящее. Мы увидим, как на протяжении веков развивалось человеческое общество, как параллельно с новыми институтами, технологиями, знаниями и экономическими укладами менялись представления о ценностях и нормах и что у каждого из этих изменений есть своя изнанка, поскольку те, кто живет в обществе, отказывают в этом праве другим, кто знает законы, желает быть над ними, кто доверяет, становится зависимым, кто создает богатство, порождает неравенство и эксплуатацию, а тот, кто стремится к миру, иногда вынужден воевать.
Любая перемена неоднозначна, любое благо может обернуться грубой, темной, холодной стороной, за прогресс приходится платить. Ранняя эволюция нас сплотила, но в то же время и превратила во врагов всех, кто не принадлежит нашей группе, – кто говорит «мы», тот вскоре скажет и «они»; эволюция системы наказаний нас одомашнила, сделала дружелюбными и уживчивыми, но и пробудила мощные карательные инстинкты, мы стали ревностно следить за соблюдением своих прав; культура обогатила нас новыми знаниями и навыками, которым мы научились у других, – и от этих Других мы зависим; неравенство и власть принесли нам небывалое изобилие, но и породили новую иерархию и тиранию. Новое время нас раскрепостило, благодаря науке и технике мы подчинили природу и «расколдовали» мир – в итоге мы отдалились от дома, приобрели заморские земли и стали колонизаторами и рабовладельцами. ХХ век, желавший с помощью глобальных институтов водворить всеобщий мир и наделить всех равным моральным статусом, стал веком преступлений, беспрецедентных по своему масштабу, и поставил человечество на грань экологического коллапса. Сегодня мы пытаемся избавиться от последнего наследия деспотизма и дискриминации, от расизма, сексизма, гомофобии и маргинализации; несомненно, за это тоже придется заплатить.
Наша мораль – это палимпсест: пергамент, на котором один текст нанесен поверх другого, зачастую едва различимого и не поддающегося воспроизведению. Что же это такое, мораль? Как ее определить? В идеале – никак, потому что «дефиниции подлежит только то, что не имеет истории»2. Но у нашей морали история есть, и она слишком многослойна и громоздка, чтобы ее можно было вместить в стерильные формулы, которые мы придумываем, сидя в кабинетах. Тем не менее трудность определения морали вовсе не означает, что о ней невозможно ничего ясно сказать. Просто этого не расскажешь в двух словах.
История морали отнюдь не то же, что история моральной философии. О наших ценностях мы уже задумывались задолго до того, как стали записывать мысли о них. Законы Хаммурапи и Декалог, Нагорная проповедь, категорический императив Канта и veil of ignorance («занавес неведения») Роулза3 играют определенную роль в моей истории, но совсем незначительную. Моя история – о наших ценностях, нормах, институтах и практиках. Мораль не в головах, а в городах с их мостовыми, в законах и обычаях, в праздниках и войнах.
Я надеюсь, что история, которую я собираюсь рассказать, прольет свет на настоящее. Современные общества проходят сегодня нравственную проверку, пытаясь совместить возможность дальнейшего существования с очень неприятными истинами нынешнего бытия. Как отражается на общей ситуации переживаемая нами сейчас перестройка моральной инфраструктуры? Откуда взялась та непримиримая поляризация, которую мы наблюдаем в настоящее время? Как связана культурная идентичность с социальным неравенством? В совокупности эти элементы, в конечном счете, сигнализируют о кризисе нынешней морали. Предлагаемый мною диагноз всецело вытекает из истории морали, которую я излагаю в этой книге. Понять настоящее можно, только обратившись к прошлому.
Если коротко, благодаря эволюции нашей морали мы обрели способность объединяться для сотрудничества, но эта нравственная установка распространялась только на тех, кто принадлежал к «своей» группе (глава 1: 5 000 000 лет). Эта потребность в сотрудничестве, возраставшая по мере изменений внешней среды, заставляла нас объединяться для совместной жизни во всё более крупные группы. Существовавшая система наказаний, с одной стороны, сплачивала группу и прививала толерантность, а с другой стороны, внедряла карательную психологию, которая бдительно следила за соблюдением внутренних правил (глава 2: 500 000 лет). Общая эволюция генов и культуры превратила нас в существ, способных учиться у других, аккумулировать информацию, обретать новые навыки и таким образом осваивать культурный капитал. В то же время это поставило нас перед выбором: у кого учиться или, иными словами, кому довериться и кому верить, следовательно, предпосылкой растущего доверия выступают общие ценности (глава 3: 50 000 лет). Нашему виду, то есть существам, научившимся объединяться, карать и передавать опыт, удалось создать настолько крупные сообщества, что их многочисленность грозила хаосом. Поэтому наш первобытный эгалитаризм сменили более строгие иерархические формы организации, которые разделили человеческие сообщества на социально-экономическую элиту и на политически и материально зависимое большинство. Социальное неравенство росло, а вместе с ним росло и наше отвращение к нему (глава 4: 5 000 лет). Понадобилось время, чтобы в истории морали сложилась культурная ситуация, когда родство и иерархию, структурировавшие общество, заменили отношения сотрудничества между автономно действующими индивидами. Этот новый этап социальной эволюции вызвал к жизни силы, породившие невиданный прежде экономический рост, научный прогресс, политическую эмансипацию и, в конечном счете, современное общество, в котором мы живем до сих пор (глава 5: 500 лет). Одновременно усиливался антагонизм между нашим отвращением к социальному неравенству и экономическими выгодами, которые сулит общественная структура, основанная на индивидуальных свободах. По мере роста материального благосостояния всё громче раздавалось требование достичь чаемого равенства, в итоге социально-политический статус дискриминируемых меньшинств стал для нас моральным приоритетом (глава 6: 50 лет). То, что эта проблема не решается так скоро, как нам хотелось бы, драматизирует нынешнюю ситуацию, в которой все основные элементы нашей истории морали соединились в гремучую смесь: морально взвинченная групповая психология быстро склоняется к социальному расколу. Трудности преодоления социального неравенства возбуждают подозрительность ко всем, кто, как кажется, не борется за общее дело с должной решительностью. Это усиливает разделение общества на «мы» и «они», вследствие чего мы легко поддаемся дезинформации, поскольку всё чаще в нашем решении, кому доверять, главную роль играют исключительно знаки моральной солидарности. Наша карательная психология начинает особенно пристально отслеживать эти символические маркеры групповой принадлежности и всё более жестко наказывать отступников. Современные конфликты идентичности – левых и правых – порождены этой динамикой (глава 7: 5 лет). Но этим не должно всё ограничиться, потому что наши политические разногласия, как правило, весьма поверхностны, на глубине же, под этой поверхностью, скрыты универсальные моральные ценности, общие для всех людей, именно они-то и могут послужить основой для нового взаимопонимания (заключение: будущее всех).
Как я уже говорил, это долгая история. Она начинается в незапамятном прошлом и заканчивается в будущем. Ее течение то плавное, то стремительное: между первой и второй главой проходят миллионы лет, тогда как последние три главы вмещают всего несколько веков. Однако выбранное мной хронологическое деление не надо воспринимать буквально. Многие из описанных событий наслаиваются друг на друга и не поддаются четкой периодизации. В периодах, на которые разбито повествование, следует видеть условную классификацию, помогающую расставить акценты и дать общее представление.
Возможны и другие подходы: например, историю морали можно было бы рассказать как историю развития человеческих сообществ – от небольших семейных групп числом, скажем, пять человек до первых кланов и племен численностью 50 или 500 человек, от первых городов с 5 000 или 50 000 жителей до крупных современных сообществ с населением более 5 миллиардов человек.
Историю морали можно представить также как историю разных форм человеческой эволюции. Она начинается с биологической эволюции, когда наша мораль выделила нас из животного мира как особый вид; она включает в себя и формы культурной эволюции, благодаря которым мы создали собственный мир; наконец, в ней запечатлен силуэт социальной и политической эволюции, формирующей современную человеческую историю.
Это может быть и история о том, что делает нас нравственными существами и конституирует особый человеческий мир, – история о нашей способности объединяться для сотрудничества, карать и доверять другим, о нашей зависимости от других, равенстве и иерархии, индивидуальности и автономии, о нашей уязвимости, общности и идентичности. Выбранная мной периодизация не более чем карта: карта не изображает реальность, она служит лишь ориентиром. Самая точная карта не всегда лучшая.
Каждая глава этой книги продолжает предыдущую, следуя внутренней логике повествования. Однако все части написаны так, что их можно рассматривать и как вполне самостоятельные, отдельные тексты. Кому интересна биологическая эволюция человека и то, каким образом она сформировала нас как моральный вид, могут ограничиться первыми главами. Тому, кто хотел бы узнать о ранней культурной истории человечества и о том, как мораль первых цивилизаций создала нашу культуру, будут полезны средние главы. Последние три главы адресованы в первую очередь тем, кто хочет лучше понять моральный дух современности. А тем, кто – как и я – считает, что настоящее мы понимаем лишь тогда, когда знаем прошлое, предлагаю прочитать всю книгу.
Это пессимистическая история прогресса. Она пессимистична, потому что в каждом поколении слишком много зла. И всё же это история прогресса, поскольку, похоже, в нас сохраняется передаваемый из поколения в поколение потенциал постепенного улучшения человеческой морали, и этот потенциал порой раскрывается. Моральный прогресс всегда возможен и часто реален. Но его нельзя воспринимать как должное – любое достижение нужно защищать от сил инерции, присущей косной человеческой природе, а также от иррационального мышления и безжалостной судьбы.
Мысль о том, что мораль с ее тайнами и противоречиями можно понять, только зная о ее истоках, не нова. Философский прорыв произошел благодаря Ницше, который назвал этот проект «генеалогией морали». Никто лучше его не знал, что сами по себе аргументы и факты не приводят к перемене взглядов. История о восстании рабов в морали, когда угнетенные и отверженные, отравленные обидами (ressentiments) на сильных, красивых и высокородных, совершают переоценку всех ценностей, – это риторический прием, призванный заронить подозрение к моральным «предрассудкам»4. Критикуя актуальную мораль, Ницше предлагает собственную позитивную альтернативу, возвращающую нас к истокам морали, той морали, которая основана на мирских ценностях великодушия, доблести и жизнеутверждающего творчества.
В работе «К генеалогии морали» Ницше объясняет, что переоценка ценностей, вывернувшая наизнанку понятия добра и зла, хорошего и плохого, была тонким навязыванием «стадной морали», посредством которой слабые и бесправные сумели психологически воздействовать на благородных и сильных таким образом, что последние стали считать отверженных достойными любви, а нищих – истинно богоугодными. Эта генеалогия пытается убедить нас в том, что моральное сознание в большей степени обусловлено инстинктом жестокости, чем внутренним голосом (голосом Бога), беспристрастно напоминающим о наших моральных обязанностях; она также дезавуирует всякий моральный аскетизм самоотречения как симптом упадка и враждебности к жизни.
Главная проблема ницшеанского рассказа о происхождении морали – в том, что он неправдив. Тезис, будто господствовавший в то время христианский идеал смирения и равенства, умеренности и сострадания возник из бессилия и ненависти к себе бесправных людей, чья зависть и неизбывное презрение к блеску сильных мира сего побудили изобрести ценности, враждебные жизни, не выдерживает исторической проверки5.
Многое остается под спудом. Тем не менее теперь мы знаем, каким должен быть вопрос о происхождении морали и каким может быть ответ. Следует заглянуть дальше, чем предлагает Ницше, сосредоточившийся на переходе от мирской, героико-аристократической этики Античности к христианской этике раннего Средневековья, которая подчеркивала человеческую греховность, трансцендентность и добродетели сострадания, смирения и самоотречения. Следует рассмотреть куда более фундаментальную проблему: как вообще возникла человеческая мораль. Только тогда мы увидим, как изменились со временем наши ценности и олицетворяющие их социальные структуры.
Излагаемая мной история морали – не традиционная историография, апеллирующая к конкретным, более или менее подтвержденным событиям и процессам. Это форма «глубокой истории», которая не отсылает к датам и именам, а предлагает правдоподобный сценарий.
Точный ход событий вряд ли когда-нибудь будет воспроизведен, поскольку колодец прошлого глубок (и, пожалуй, непостижим). Приходится полагаться, насколько это возможно, на навигацию различных дисциплин. Генетика, палеонтология, психология и когнитивистика, приматология и антропология, философия и теория эволюции – все они представляют свои точки зрения, из которых складывается единая картина.
Выявит ли эта история, как считал Ницше, pudenda origo наших ценностей – их позорное начало? Сможем ли мы по завершении ее по-прежнему любить друг друга? Сокрушит ли неудобная правда, увиденная в холодном свете дня, нашу уверенность в своих ценностях? Выдержит ли наша мораль проверку? Или же от нашего великого праздника останутся только руины, ненависть и позор?
Мы не знаем, что нас ждет в будущем, не знаем, как мы будем (и будем ли) жить вместе. Но это и не так важно. Наши моральные ценности подобны фарам: в их свете немногое разглядишь вдалеке, но с их помощью можно проделать большой путь. Эта история о таком пути.
И начинается она так.
5 000 000 лет.: Генеалогия 2.0
Упадок
С засухой исчезли и деревья. А на расколотой земле образовались искромсанные долины и крутые овраги, гигантские мрачные озера и болота, высокие горы и отлогие холмы. На месте роскошных лесов, которые прежде давали нам приют среди лиан, огромных, покрытых росой папоротников и сочных олив, где меж корней и разноцветья, поднимавшегося из земли, росли душистые грибы, появились колючие заросли, кустарники и острые травы.
Как только мы покинули деревья, а деревья покинули нас, мы очутились на безбрежной голой равнине. В этом новом, бескрайнем мире вместо дождя низвергались камни и огонь, и почти нечем было питаться. Зато здесь рыскали столь же голодные и более быстрые, чем мы, крупные хищники со свирепыми мордами.
Хозяйственная сумка на колесиках, и до половины не заполненная окаменелостями6, – вот всё, что осталось от наших далеких пращуров. Во всяком случае, ничего, кроме нескольких зубов, фрагментов черепа, обломков надбровных дуг, частиц верхней и нижней челюстей, а также пары бедренных костей, обнаружить не удалось.
Профессиональная терминология сбивает с толку. Сегодня разные таксоны (от древнегреческого táxis – расположение) определяются в зависимости от того, на какой из ветвей зоологического родословного древа мы себя видим и какие различия и эволюционные ответвления хотим подчеркнуть: семейство гоминид (Hominidae) включает в себя, помимо рода гомо, всех человекообразных обезьян, то есть горилл, орангутанов и род шимпанзе (Pan), к современным представителям которого относятся обыкновенный шимпанзе и бонобо; обозначение гоминины (Homininae) не включает подсемейство азиатских понгинов (орангутанов) и зарезервировано только для африканских человекообразных обезьян, к которым принадлежат шимпанзе и гориллы, а также человек. Наконец, термин гоминини (Hominini) охватывает всех людей в узком, но всё же не в самом узком смысле: это таксон – биологическая триба, – куда входят самые ранние человекоподобные (но, по общему признанию, еще не вполне человеческие) существа, которые начали заселять земли Южной и Восточной Африки около пяти миллионов лет назад. К ним причисляют австралопитеков и ряд других более привычных категорий, таких как «человек работающий» (Homo ergaster), «человек прямоходящий» (Homo erectus), «гейдельбергский человек» (Homo heidelbergensis) и «неандерталец» (Homo neanderthalensis). Из этих гоминини сегодня остались только мы – «человек разумный» (Homo sapiens).
Общность
История эволюции первых гоминини – это история самых ранних, проточеловеческих предшественников со времени их отпочкования от пращуров, общих с другими ныне живущими человекообразными обезьянами. Этот первый и важнейший этап нашей эволюции произошел примерно пять миллионов лет назад7.
Добытые окаменелости – за исключением самого древнего сахелантропа чадского (Sahelanthropus tchadensis), чей асимметрично деформированный череп нашли в пустыне Джураб на севере Чада в Торос-Меналла, – были обнаружены в Восточной Африке на территории современных Эфиопии, Кении и Танзании. Это фрагменты бедренной кости и кости большого пальца оррорина (Orrorin tugenensis), найденные в слоях геологической формации Лукейно на зеленых Тугенских холмах; коренные задние зубы ардипитека рамидуса (Ardipithecus ramidus) и нижняя челюсть австралопитека в Афарском треугольнике на берегу реки Аваш (Australopithecus afarensis, к которому относится и Люси). Вторая крупная находка окаменелостей имела место в Южной Африке, в пещерах Стеркфонтейн и Глэдисваль, Дримолен и Малапа, где были найдены останки разных наших предков. Не исключено, что этими «посланиями в бутылке» мы обязаны леопардам и другим крупным хищникам, которые жили в этих пещерах, тащили туда добычу и там пожирали ее.
Эти окаменелые останки сегодня разбросаны по палеоантропологическим научно-исследовательским центрам в разных странах мира, где их задокументировали, заархивировали, зарегистрировали, присвоив бюрократические ярлыки. Так, сахелантроп именуется прозаично и просто – TM 266, оррорин – BAR 1000’00; другие части, фрагменты и куски указаны как Stw 573, KT-12/H1 или LH4. Ардипитека рамидуса назвали не очень оригинально, но все же – Арди8.
История человеческого становления, которую приоткрывают эти находки, – всего лишь черновик. Она, как иногда говорят философы, остается «пленницей эмпирических данных» и в любой момент, в свете новых открытий, может подвергнуться пересмотру и коррективам или устареть. И это хорошо и правильно, так как неизменными бывают только догмы, в науке же долговечные выводы – скорее исключение. Обращение к нашему глубокому прошлому всегда умозрительно, но не в смысле туманных, непроверенных или притянутых за уши предположений, а в том основательном смысле, что легионы пытливых умов, вооруженных сложнейшими методами сравнительной анатомии, молекулярной генетики, радиоизотопного датирования, биохимии, статистики и геологии, стремятся воссоздать из множества разнородных теорий и сведений наиболее достоверную версию человеческой истории. Эта реконструкция, однако, по-прежнему зависит от того, какими секретами земная кора решит поделиться с нами посредством геологических находок. Здесь мы нередко уподобляемся пьянице, который ищет под фонарем потерянный ключ и на вопрос, почему именно под фонарем, отвечает: тут светлее.
Колыбелью человечества мы считаем Восточную Африку, поскольку именно там геологические условия позволили обнаружить слои горных пород, которые в других частях света остаются погребенными под десятками метров щебня, песка и глины. Кроме того, во всех научных дисциплинах существует иерархия стимулов, и она-то соблазняет даже самых серьезных антропологов возводить последние находки к нашим прародителям, а не к тривиальным видам. Неудивительно, что до сих пор не найдены окаменелости шимпанзе и бонобо, – и это понятно: «кто же откажется от шанса прослыть первооткрывателем древнейшего гоминина, а не какого-нибудь древнего понгина»9.
Когда мы говорим о самых ранних человеческих предках, отделившихся в ходе эволюции от остальных приматов, мы имеем в виду животных, чья физиономия и внешний вид весьма отдаленно напоминают современных людей. Едва ли больше метра ростом, покрытые густым черно-бурым мехом, с характерными для приматов длинными руками, выдающейся вперед мордой и широкими открытыми ноздрями, эти протолюди больше походили на нынешних обезьян, чем на нас. Первые признаки культуры и интеллекта, проявившиеся у наших предков при решении проблем, обнаружились гораздо позже: примитивным каменным орудиям, прославившим Олдувайское ущелье в Танзании, не более 2,5 миллиона лет.
Тогда еще было тепло, хотя и не слишком, потому что места нашего обитания обычно находились на высоте более 1 000 метров. В этих бескрайних редколесьях и степях мы день-деньской рыскали небольшими группами, выискивая в земле съедобные корни и клубни, горькие побеги и растрескавшиеся корневища, орехи и термитов, а если везло, находили и останки животных, не доеденные гиенами или львами – куда более талантливыми, чем мы, охотниками в то время. Оставшиеся на трупах сухие мясные ошметки обеспечивали нас белком, как и костный мозг, и мозги, которые мы мастерски выковыривали из треснувших черепов.
Для человеческой эволюции плейстоцен, начавшийся два миллиона лет назад, стал решающей геологической эпохой. На земле царствовала причудливая мегафауна: бродили мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры и гигантские броненосцы. Все они вымерли, отчасти с нашей помощью.
Мы жили в суровом, опасном мире. Открытое пространство, похожее на саванну, созданное Восточно-Африканским разломом и превратившее восточную часть континента в знойную степь, сделало нас легкой добычей для хищников, от которых мы уже не могли спастись, быстро карабкаясь под кроны деревьев. Горная гряда, поднявшаяся на западе, отгородила эту территорию от ветра и дождей, которые прежде приходили с Атлантики и обильно орошали почву10.
Отпечатки ног, сохранившиеся под пеплом вулкана Садиман в Лаэтоли, принадлежат семье – двум взрослым и ребенку, оставившим свои следы почти четыре миллиона лет назад. Это самое древнее и надежное свидетельство о прямоходящих. Такому двуногому образу жизни способствовали новые условия обитания вне дремучих лесов. Хотя мы долго еще оставались виртуозными верхолазами, нам всё чаще приходилось преодолевать большие расстояния на своих двоих. На плоских, поросших кустарником широких равнинах имело смысл шагать быстрее и быть зорче.
Социальную жизнь группы ранних гомининов можно рассмотреть сквозь призму современной модели бюджета времени11. В конечном счете, чтобы выжить в окружающем мире, мы, приматы (и другие существа), должны были делать три вещи: заботиться о пище, об отдыхе и друг о друге. Имея какое-то представление о том, каким был в ту пору архаичный мир и каким чистым суточным временем (то есть за вычетом ночи) располагал тот или иной вид, можно определить оптимальную численность групп, чья сплоченность полностью обеспечивалась так называемым грумингом – взаимной заботой, ставшей главным социальным мотиватором среди приматов. У тех, кому приходилось изрядную долю времени искать пищу и какое-то время отдыхать, оставалось максимум x времени на то, чтобы заботиться о других. Этого промежутка было недостаточно для поддержки группы численностью более двадцати человек.
Почему же социальная жизнь была так важна для наших предков? Почему наша способность кооперироваться стала играть столь значимую роль? Эти вопросы возвращают нас к климатическим и геологическим изменениям, вызванным Восточно-Африканским разломом.
Первой фундаментальной трансформацией человека как нравственного существа стало открытие морали. Большинство видов животных руководствуется инстинктами, которые обусловливают и поддерживают сплоченность группы. Косяки рыб, словно призраки, повинующиеся неслышному ритму, действуют слаженно благодаря стадному инстинкту; разделение труда у таких общественных насекомых, как пчелы или муравьи, доведено до совершенства, зачастую достигаемого ценой полного самопожертвования особи ради блага улья или колонии. И та разновидность общности, которая сформировала человеческую мораль, тоже зижделась на том, что интересы индивидуума всецело подчинялись общему благу, выгодному всем.
Возникшая человеческая общность стала первой важной ступенью к нравственному преображению нашего вида. Почему общность? Уникальной способностью объединяться для сотрудничества мы обязаны климатическим и географическим сдвигам, приведшим к смене тропических лесов открытыми, пустынными, как саванна, ландшафтами. Это также объясняет, почему наш жизненный уклад так радикально отличается от образа жизни шимпанзе и бонобо. Наши ближайшие родственники, которых миновали климатические потрясения, продолжали жить в густых чащах вокруг реки Конго в Центральной Африке и, следовательно, подвергались совершенно иному давлению отбора. Разрушение окружающей среды и возросшая угроза со стороны хищников побудили нас сплотиться ради общей защиты и тем самым компенсировать собственную уязвимость. Силу и опору мы нашли в более крупных группах и более тесной кооперации. Собственно, мы, люди, – это то, во что превратились самые умные обезьяны, вынужденные в течение пяти миллионов лет жить на просторах бескрайних саванн12.