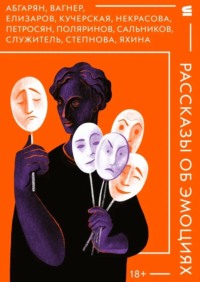Czytaj książkę: «Рассказы об эмоциях»
© Абгарян Наринэ Юрьевна
© Вагнер Яна Михайловна
© Елизаров Михаил Юрьевич
© Кучерская Майя Александровна
© Некрасова Евгения Игоревна
© Петросян Мариам Сергеевна
© Поляринов Алексей Валерьевич
© Сальников Алексей Борисович
© Служитель Григорий Михайлович
© Степнова Марина Львовна
© Яхина Гузель Шамилевна
* * *
Гузель Яхина
Эби

Мальчик был худ и бледен, костью тонок, кожей нежен. Старуха, наоборот, темна лицом и плотна телом, вся скукожена, сжата, собрана в морщины, как иссохшая прошлогодняя картофелина. Он казался отростком на этой картофелине, потому что всегда неотлучно был при ней. Она называла его Салаватом, а он ее – просто эби, бабушка. Вероятно, у нее тоже было имя, но Салават его не знал.
Они появлялись везде, где их приглашали. А приглашали много: Итиль велик, и число притоков его велико, и число деревень на каждом притоке. Приезжали за ними на телегах, на санях, на длинных долбленых лодках, на серых, как песок, верблюдах – и они садились в эти телеги, и в эти сани, и в эти лодки, и на этих верблюдов. Ехали – то глубже в степь, где начинались кочевья диких кайсаков, то на крутые холмы по ту сторону Итиля, к тенистым дубравам, владениям мокшан и эрзян. Эби помогала младенцам появляться на свет, а Салават помогал эби. Ему было семь лет, и он уже многое умел: запаривать шалфей и чистотел – для омовения новорожденных; писать молитвы крепким чаем на внутренних стенках глиняных пиал – для выпаивания матерей; громко и часто бить в чугунную сковороду – для разрешения затянувшихся родов. Но главная его работа была – охранять. Салават был мужчиной, а зло боится мужчин. Часами сидел он у порога бани и слушал, как стонут роженицы. Нагие, с дрожащими от напряжения пупками на огромных влажных животах, те стояли посреди парильни и выли, ухватившись за перекинутое через потолочную балку полотенце и выгнув дугой позвоночник. А эби выпускала из их чрева крошечных огненно-красных детей.
Салават дважды спрашивал у эби, была ли у него самого когда-либо мать, и дважды получал одинаковый ответ: не было ни отца, ни матери. Просто однажды, когда эби стало скучно, она состригла ногти, соскребла пот с тела, смешала в комок и дунула – получился мальчик. Назвала Салаватом. Третий раз спрашивать не имело смысла. Вероятно, именно так все и было на самом деле.
Потому каждый раз, когда эби постригала ногти, Салават с тревогой следил: не собралась ли она лепить еще одного мальчика? Отрезанные ногти хранились в туго перевязанном холщовом мешочке на дне сундука, их было много, горсти и горсти, хватило бы на целую армию детей – красивее, здоровее, умнее и послушнее, чем он. От этой мысли порой бывало больно. Он мечтал кинуть тот мешочек в печь, но знал, что никогда этого не сделает – не убьет целую армию детей.
Иногда по ночам Салават откидывал занавеску на окне и тайком рассматривал спящую эби при лунном свете. Удивительным образом все, что он когда-либо видел и наблюдал, можно было отыскать в ее облике. Яркая седина ее волос включала в себя все оттенки зимы: и прозрачность первой октябрьской поземки, и рыхлую белизну покрывающего холмы снега, и перламутровое мерцание шуги в замерзающем Итиле, и тяжелую серость февральского льда. Кожа эби, бурая и ноздреватая, несла в себе цвета земли, замшелых камней, выгоревших к середине лета трав, сусликовых шкур и мотыльковых крыльев. В причудливом рисунке морщин содержалась земная география: крупные складки были реки, мелкие – дороги, а самые тонкие, едва заметные, – тропинки в лесу. Редкие пучки длинных, местами седых, местами еще черных волос на подбородке – березняки и дубравы, так же кучно, островами, раскиданные по итильским холмам. Крупные и глубокие дыры пор – солончаковые озера в степи. Не было на земле предметов и красок, что нельзя было бы найти в эби: мир отражался в ней, как в зеркале. А возможно, все было ровным счетом наоборот: эби дарила Вселенной цвета и формы, и мир вокруг был всего лишь ее отражением.
Во время сна в глубине тела эби раздавались десятки звуков, и в тихую ночь – если за окном не выла пурга и не шуршал дождь – эти звуки можно было слушать, осторожно припав ухом к могучему теплому боку. Жизнь внутри эби была многоголоса и бесконечна: она рокотала и пела, и гудела, и подсвистывала, и сипела, и шептала, клокотала, ни на миг не прерываясь. Возможно, там, внутри, существовал еще один мир, со своими ветрами, грозами, ливнями, приливами и отливами, грохотом камней и раскатистым эхом. В такие минуты лежащему с открытыми глазами в темноте Салавату всегда было немного жаль, что он не может стать частью этой радостной и мощной симфонии или хотя бы подыграть ей. Звуки его собственного тела были скудны: изредка постанывал с голода пустой желудок.
Голос эби был пронзителен, поступь – стремительна, рука – тяжела и тверда. Пальцы ее никогда не разгибались, как и спина – круглая, с остро торчащими вверх крыльями лопаток, правая чуть выше левой. В горбатости эби был виновен Салават.
В детстве кости его были мягкими, как глина, он не мог ходить сам, и эби носила его в заплечном мешке – до того возраста, когда другие дети уже гусей пасут. Оттого и согнулась серпом. Даже голова его была тогда на ощупь как гнилой арбуз, а самое гнилое место – на темени; положа на него руку, можно было ощутить биение сердца, а ткнув пальцем – пробить насквозь. Так эби рассказывала.
Вы́ходила его эби. Салават хорошо помнил, как она перепекала его в печи; это его самое первое и самое страшное воспоминание. Он лежит на деревянной лопате для хлеба, голый. Бабушка шурует кочергой в печном устье, затем поднимает лопату и сует в печь. Оказавшись в черной и горячей темноте, Салават перестает ощущать границы своего тела. Он не может даже увидеть, есть ли у него еще руки или, к примеру, живот, – и воет от ужаса. Этот вой, отражаясь от печных стенок, окутывает его со всех сторон; кажется, он воет самому себе в уши. Когда эби вытаскивает его на свет, Салават падает на пол и хочет уползти, но она цепко ловит его за ногу и вновь сажает на лопату: перепекают больного ребенка трижды, еще два раза осталось… С тех пор он боится печи. Хотя кости его после того случая окрепли, скоро он смог ковылять по дому, а спустя некоторое время и по улице.
Это было кстати: эби начала брать его с собой на заработки. В поездках к роженицам, вверх и вниз по Итилю, он поступал как учила эби: рот держал закрытым, а глаза и уши – открытыми. Видел много лиц: широких и плоских, длинных и горбоносых, скуластых, бровастых, желтых, бурых, медно-красных. Но еще больше слышал голосов и языков. Лица иногда обманывали: кайсаки казались калмыками, черемисы – башкирами, удмурты – чувашами; языки же не обманывали никогда. Он дивился их многообразию и ощутимой, почти вещественной красоте. В струении башкирского отчетливо сыпался крупный песок, мягко – по траве или мху – били копытами сонные кони, еле слышно перекатывались по дну ручья камни. Чувашский звенел пчелами и комарами, свистел осокой у реки, шуршал расползающимися ужами, стрекотал кузнецами в траве. Черемисский то позвякивал медными монетами, то рассыпал их в воду, и они шлепались туда с коротким хлестким «ча!». Даже родной татарский – в зависимости от того, куда Салават и эби перемещались, на солнце или от него, – звучал на Итиле по-разному: то было в нем больше ветра и шелеста сухих трав и погромыхивания перезрелых семян в осенней степи; то нежнее лилось густое жирное молоко, булькала сметана и сладко чавкал, разламываясь пополам, кусок медовых сот.
А рожающие все говорили на одном языке – языке боли. Этот язык эби и Салават знали, пожалуй, лучше всех на Итиле. Даже лица у рожениц в какой-то момент становились одинаковыми: обтянутые кожей скулы, влажный оскал зубов, напряженные до белизны крылья носа. Эби как-то обмолвилась, что, только примерив эту маску, женщина становится истинной женщиной. Про мужчин ничего подобного не сказывала. Видимо, им подобное подтверждение принадлежности к своему полу не требовалось.
Люди считали, что Салават и эби приносят в дом счастье: когда чрево женщины долгое время оставалось пустым и тщетно жаждало отяжелеть плодом, эби помогала несчастным супругам зачать – конечно, мальчика. Все в этом мире почему-то хотели мальчиков – задиристых, шумливых, прожорливых и дерзких крикунов. Это было странно. Будь Салават женщиной, он пожелал бы себе девочку, кроткую и нежную, как серебристая рыбка в заводи.
Чтобы заполучить долгожданное дитя, родителям приходилось постараться: они давали обеты и раздавали милостыню; жена ела заговоренные эби яблоки (летом), сушеные вишни или моченые бобы (зимой) – нечетное число, по одному раз в день после молитвы; ходила за руку с эби вокруг кладбища, прося содействия предков. Когда все необходимые процедуры были соблюдены, а тела и души супругов подготовлены к зачатию, эби с внуком приходили в дом. Салавата укладывали на простынь, тщательно выполосканную в Итиле (не с мостков у берега, а в самых чистых струях на середине реки) и высушенную непременно на солнце; и он долго катался по постели, стиснув от усердия губы и плотно прижимаясь к ткани лицом, так что в избе только и было слышно, что скрип досок под ним да его ретивое пыхтение. Иногда для верности эби сама валяла его по простыни. Ее твердые негнущиеся пальцы ложились на его загривок и раскатывали Салавата, как тесто. В такие минуты он морщился от боли и улыбался одновременно: ему нравилось ощущать себя тестом в руках эби.
Все это время оробевшие супруги бессловесно сидели где-нибудь в углу на сундуке, словно чужие в собственном доме. Вероятно, думали и сожалели о своих грехах. Мелкий грех рождению детей не помеха; он на ребенке проявится, чтобы родителям о себе напомнить и в вере их укрепить, а затем исчезнет. Если отец ел тайком свинину – на спинке у новорожденного вырастет щетина, черная и жесткая, как у борова; ее молоком материнским смажешь – она и выпадет. Если мать была чересчур болтлива или громко кричала на улице – будет дитя поначалу крикливое и беспокойное, затем израстется и успокоится. О грехе языка, живота или ушей люди узнают и долго еще будут судачить, но родившийся ребенок сам по себе – знак милости свыше, успокоение и радость родителям. Иное дело – грех большой. Зависть и гордыня, самолюбие и лицемерие камнем лягут на грешника, придавят его вместе с супругом, превратят женское чрево в дырявую лохань, а мужское семя – в кислое молоко. Не видать несчастным ни потомства, ни людского участия – так и проживут жизнь в пустом доме.
Много таких грешников перевидал Салават. Ему было жаль их: тяжело жить, всегда и всюду таская за собой содеянное, словно груженную пудовыми камнями арбу…
– Афарин! – резко восклицала наконец эби, вздевая к низкому потолку корявые кисти рук. – Быть в доме мальчику!
– Спасибо вам, апа, – не поднимая глаз, еле слышно отзывалась хозяйка. – Благодать на вашу голову и на голову вашего внука.
И Салават с эби торопливо покидали дом, унося увесистый кулек – мягкую, не успевшую еще остыть и закоченеть курицу, или пару караваев свежего хлеба, или кипу морщинистых, сахарных на кромке кусков вяленой тыквы. Оставляли супругов наедине, в дрожащем свете лучины и тишине, наполненной лишь треском огня в печи да гудением ветра в трубе…
В тот самый день их с эби пригласили в соседнюю деревню – в дом кузнеца Тукташа, чья жена Банат ждала приплода. Уже излились воды ее чрева, уже ребенок просился на свет и волновался, сотрясая изнутри материнский живот, когда Тукташ прибежал к эби – пешком, по жирной апрельской грязи, заляпанный глиной по самое лицо, по самые глаза, расширенные от волнения. Небо не баловало Тукташа потомством: первый плод не успел созреть в нутре его жены – унесенный джиннами, он оставил на память о себе лишь сгусток темной крови на простыне. Второго плода ждали целых три года. И вот – дождались. Эби с Салаватом повязали на ноги деревянные копыта – единственное спасение от весенней слякоти – и поспешили к роженице.
Стылый ветер с того берега Итиля дышал им в лицо, низкие облака летели по бледно-синему небу навстречу, отражались в длинных зеркалах стоячей воды на черных полях. Обрывками тонких кружев трепыхались на горизонте мелкие рощицы. Эби летела по раскисшей дороге стремительно, наравне с могучим длинноногим Тукташем; Салават еле поспевал следом, время от времени переходя на бег и более всего боясь оступиться и макнуться в одну из огромных, наполненных маслянистой глиной луж. Тукташ на бегу сбивчиво бормотал что-то под нос, то стягивая с бритой макушки черный матерчатый каляпуш, то опять нахлобучивая на голову; вдруг остановился, вцепился Салавату в плечо, заглянул в глаза: «А ты справишься, мальчик?» – «Если под ногами мешаться не будешь!» – гаркнула, не оборачиваясь, эби.
Когда за холмом глянула Тукташева деревенька, воздух уже загустел, налился тяжелой вечерней голубизной. Подошли к околице; поспешили вдоль домов – приземистых, спрятавшихся за палисадниками, кое-где уже тускло мерцающих желтым светом в мутноватых окошках. Обогнули несколько высоких, щербатых местами заборов, ныряя то вправо, то влево по путанке узких проулков. Наконец юркнули в покосившиеся ворота с прибитым на створках деревянным солнцем. Пришли.
Во дворе пахнуло сладковатым кизяковым дымком: баня топилась уже давно, в воздухе витали остатки дымного угара. Не заходя в дом, поспешили мимо высокого крыльца и длинной стены дома, мимо амбаров, большого и малого; мимо птичника и хлева, где кто-то утробно вздохнул и переступил тяжелым копытом; мимо ледника, сарая – к бане.
«Скажи, справишься?» – спросил повторно Тукташ у Салавата уже на пороге, ухватил влажной ладонью за торчащее ухо. Эби молча затолкнула Салавата внутрь бани. Подобрала лежащий рядом серп, со свистом вонзила в косяк – для защиты от недобрых сил. Смерила строгим взглядом Тукташа и захлопнула перед его носом разбухшую от влаги, слегка завалившуюся набок дверь.
Мир остался снаружи: и тихие звуки вечера, и запахи весенних полей, и синева теней, и страхи беспокойного мужа, и, кажется, само время. Здесь, в плотном воздухе, напитанном теплой влагой и кисло-горьким ароматом ошпаренных трав – чабреца, чистотела, чернобыльника и черемуховых листьев, – оно текло по-другому, медленнее. А может, и вовсе не текло. Суета была излишней: здесь происходило самое главное и важное, самое первое, пусть и в многотысячный раз. Где-то там, в горячих банных недрах, уже ждала женщина, а в ее чреве ждал ребенок. Ждали они только одного – чтобы эби разделась, распустила волосы, прочитала молитву и вошла к ним, а Салават занял бы свое место у порога.
Банные пределы всегда поделены на две части. В парильне – где жара и чад, где воздух дрожит и слоится, где запахи мешаются густо, как жир и мясо в кипящей бараньей похлебке, – там царит эби; она повелевает клубами пара и шипением воды на раскаленном печном металле, течениями и температурами, жизнями рожениц и новорожденных младенцев. А в прохладном предбаннике несет вахту Салават: охраняет границу. Злые духи боятся мужчин, сильно боятся – за всю жизнь Салават ни одного из них так и не видел.
Пока бабушка раздевается, он привычно проверяет необходимые для родов предметы, заранее приготовленные хозяином по указанию эби: ножи разложены под паласом у входа, дольки чеснока белеют в лохмах пакли меж бревен, на подоконнике – аккуратно переписанное чьей-то старательной и неумелой рукой изречение из Корана («Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым»). В углу стоит прикрытый салфеткой поднос с глиняным чайником, лежит чугунная сковорода с оловянной ложкой – все в порядке, все на своем месте, можно работать. Салават кидает на пол войлочную кошму и устраивается на ней поудобнее. А эби, скинув с себя три рубахи и две пары шаровар, открывает дверь в парную и переступает порог. Дверь оставляет открытой: перегревать роженицу не следует.
«Боюсь», – первое, что слышит Салават из темноты парильни.
– Аллах Всемогущий, как же я боюсь, боюсь, боюсь… – роженица уперлась руками в поясницу и широко расставила полусогнутые ноги, ее гигантский живот провис между колен и неподвижен, а плечи раскачиваются из стороны в сторону, распущенные волосы скользят по голым ягодицам. Банат очень красива – даже сейчас, даже в страхе.
– Грешна? – вместо приветствия спрашивает эби и начинает ползать по полу, поправляя разложенное сено.
Банат переступает, давая эби возможность расправить смятые ногами ворохи травы. Негнущиеся пальцы эби расчесывают сено, взбивают его, как вилы при укладке в стога. Чем пышнее сено, тем мягче роды. Эби встает и теми же взбивающими движениями расправляет отяжелевшие от влаги волосы Банат.
– Не знаю, апа. Не лгала, не клеветала. Не злословила, не сквернословила, не грубила. Пустых слов не говорила, пустым мыслям ходу не давала. Не любопытствовала понапрасну. Не спорила и не кричала. Ложных клятв не приносила. За глаза никого не бранила и ни о ком не судила. Оказанной милостью никого не попрекала… Не грешна, а боюсь. – Банат подносит ладони к лицу – пальцы ее мелко дрожат.
Напевно бормоча что-то под нос, эби расплетает свои косы – тонкие, почти невесомые, и длинные, ниже колен. Волосы ее спускаются до земли, волочатся по навалам сена под ногами, иногда кажется, она наступит на прядь или запнется. Любой узелок или связка – роженице помеха, и потому быть повитухе с заплетенными косами никак нельзя. Затем надрывает край ситцевой занавески на крошечном оконце, выдергивает нитку и также распускает по низу: чем больше петель разойдется, тем легче разрешатся роды.
– Положим, Банат, язык твой чист. А руки?
– Не воровала, не обмеривала. Никого не била, даже не замахивалась. Животных и птицу не калечила…
Эби перекидывает через потолочную балку длинное льняное полотенце и сильно дергает с обеих сторон, проверяя крепость ткани. Затем поджимает ноги и виснет на полотенце – балка чуть поскрипывает, длинные и скрюченные ступни эби, похожие на кротовьи лапы, медленно плывут над сеном.
– Не касалась ни сторонних мужчин, ни чужих вещей… – продолжает усердно перечислять Банат, – …ни карт, ни игральных костей…
Так, в тихих разговорах полушепотом, под тонкий скрип половых досок и потрескивание льняного полотна, день катится к вечеру. Салават наблюдает эту картину в тысячный раз: две обнаженные женщины в тесной коробке из коричневых бревен. Одна – молодая, гладкая, с блестящими от пота перламутровыми бедрами, белым шаром живота в мраморных разводах вен и тяжелыми мокрыми волосами, покрывающими спину. Вторая – старая, темная, рыхлая, вся словно составленная из камней, шишек и коряг. Первая – испуганная и глупая, несчастная в своей бессмысленной красоте; завтра ее заменит другая, затем следующая и следующая – и так несчетное количество раз. Вторая же останется навсегда – какая есть: горбатая, кривопалая, искореженная болезнями и временем, мудрая, всемогущая, прекрасная. Теплый закатный свет сочится сквозь банное оконце, отражается от беленого бока печи, мягко разливается по парильне. Женщины плавают в нем, как в масле. Пространство крошечное: если протянут руки в стороны – коснутся стен, вверх – упрутся в потолок. Но они совершают множество сложных движений, иногда слаженно, вместе, а иногда каждая сама по себе; но даже в отдельности друг от друга исполняют один танец, двигаются к одной цели, никогда не мешая друг другу и не сталкиваясь – как никогда не столкнутся две большие живые рыбы, опущенные в ведро с водой.
Вдруг Банат повисает всем телом на полотенце и громко стонет, круто прогибаясь в пояснице. Ее ноги разъезжаются в разные стороны, а живот подрагивает, как огромная тяжелая капля – вот-вот оторвется и упадет на пол.
– Не кричи так громко, бесстыдница! Не позорь умерших родителей и мужа своего не позорь! – командует эби в перерывах между стонами, тщательно натирая живот Банат мыльной водой и пытаясь нащупать внутри младенца. – И меня заодно. Скажут, повитуха неумелая попалась, боль не смогла унять. Разве мы с Тукташем виноваты, что ты у нас такая неженка?
Та покаянно трясет головой, но не может сдержаться – стонет еще и еще, с каждым разом все протяжнее и ниже; наверное, слышно Тукташу во дворе, может, даже и соседям на улице. Громко стонать от боли нельзя, а женщине и подавно. Эби берет в ладонь охапку мокрых волос Банат и вкладывает ей между зубов.
Салават смотрит на блестящую от пота громадину живота Банат: где-то там, в его глубинах, бьется маленькое краснокожее существо, пытаясь освободиться из ставшего тесным кокона; бьется так сильно, что причиняет матери боль. Каково это – ощущать себя всего лишь оболочкой, футляром для хранения другого человека? Чувствовать изнутри сильные толчки чужих конечностей – движение чужой воли? Хотеть и не мочь сделать хоть что-либо, быть вынужденной бессловесно терпеть и ждать, пока тот, внутри, наконец выкарабкается из твоего чрева, разорвав на своем пути твои мышцы и связки?
Или все ровным счетом наоборот? Женское тело желает исторгнуть из себя ставшего чересчур увесистым ребенка – облегчиться, рассоединиться, вновь стать только собой; оно выжимает младенца из себя, как сок из ягодной мякоти, а тот сопротивляется, колотится в застенках материнских мышц, в ужасе быть раздавленным или задушенным ими, не понимая, сколько еще мгновений жизни ему отпущено?
От таких мыслей у Салавата всегда начинает противно свербить в животе, словно там ворочается холодная и скользкая на ощупь крупночешуйчатая змея. Ему жаль Банат – мокрую от пота, с подрагивающими коленями и закушенной прядью волос во рту. Кажется, что и его колени ослабели, что и его зубы свело от напряжения, что и его виски намокли. По шее катится противная горячая капля, стекает на ключицу, затем в ямку у основания шеи, скользит дальше, вниз, по груди и солнечному сплетению, в тощую складку пупка. Салават утирает вспотевший подбородок и ищет взгляда эби: не пришло ли еще мое время – не пора ли? И читает в ее глазах ответ: нет, еще не пришло.
– Разреши крикнуть, апа, – Банат роняет зажатые во рту волосы и шепчет тихо. – Мне легче станет, знаю.
Эби не отвечает – только смотрит строго.
– Содержала ли в чистоте глаза, Банат?
– Старалась, апа: не смотрела косо или свысока, не смотрела похотливо, не смотрела дерзко. Срамные места на своем теле не рассматривала и чужим взглядам не открывала. Не подглядывала ни за кем и ни за чем, любопытные взгляды не бросала – ни в чужой двор, ни в чужую душу.
– А уши?
– Не подслушивала. Закрывала слух чужим тайнам, злым словам и грязным сплетням… Разреши крикнуть, апа! Не могу я больше, не могу-у-у!
Банат тихо воет, на ее шее будто натягиваются веревки, тонкие и толстые; под тонкой кожей на плечах, и на влажных от пота бедрах, и на крепких икрах вдруг вспухают выпуклые мышцы, оплетенные тонкой сеткой вен. Салават ощущает, как теплеют и наливаются кровью его руки и ноги, как напрягаются глотка и гортань – словно это он воет, все тише и тише, наконец еле слышно поскуливает. Он сглатывает, стараясь унять дрожь в горле и на нёбе; обнимает себя руками. Отчего-то стало труднее дышать: загустевший воздух втягивается в ноздри медленно, как вода. Закрыть бы глаза, заткнуть уши, не видеть и не слышать чужого мучения, но нельзя – эби не велит: если Салават станет слепым или глухим хотя бы на пару минут, он не сможет выполнять свою работу, когда придет его время. И он послушно наблюдает, как Банат, всхлипывая и мелко тряся спиной и плечами, утыкает лицо в свисающее с потолка полотенце, елозит непослушными ногами по полу.
Вечер перетекает в ночь, сумрак за окном чернеет. В парильне зажигают лучину, и их там сразу становится четверо: две живые женщины и две черные тени – широкие и волнистые на выпуклых бревенчатых стенах, длинные и прямые на дощатом потолке. Схватки набегают одна за другой, как волны в Итиле. С каждой из них Банат слабеет: она уже не висит на полотенце, а корячится на полу, то и дело опускаясь на локти, словно в молитве; волосы ее смешались и перепутались с сеном, к щекам и лбу прилипли сухие травинки. Слабеет и Салават: тело болит, как побитое, шея и плечи ноют, набухают тяжестью. Когда же наступит его время?
– Плохо рожаешь, Банат, – произносит эби, когда на медно-рыжем закатном небе зажигается первая звезда. – Слаба ты и ленива, дитю не помогаешь, не стараешься. А мне потом с Тукташем объясняйся, почему не вышло…
– Что не вышло? О чем ты, апа?!
– Трудись! – повышает эби голос. – Потей, празднолюбица! Рожать – не с мужем на печи лежать! И поднимись с колен, если хочешь, чтобы ребенок твой скоро на ноги встал!
А Салават уже протягивает женщинам через порог поднос с глиняным чайником и единственной пиалой. Он всегда знает, когда и что нужно эби. Густо заваренный черно-красный чай, холодный и горький до оскомины, – не для питья. Эби обмакнет в него палец и напишет внутри пиалы слова молитвы, затем плеснет туда воды и даст выпить Банат. Саму пиалу разобьет, а осколки разложит по четырем углам бани. Испытанное средство. После него младенцы выскакивают из матерей, как горошины из стручка.
Но не то у Банат. То ли скрытые от эби грехи сдавили внутренности железными обручами, а то ли страх – испитая молитва не помогает. Как не помогают ни натирание живота мылом, ни хлестание поясницы полынью, ни жевание сушеного дубового корня: Банат продолжает корячиться и стонать, а между ног у нее пусто. Не идет ребенок в мир.
Стоны Банат уже и не стоны – хрипы, глухие и прерывистые, как брехание старого больного пса. Время от времени сквозь них доносится спутанное бормотание: «…Не пила ни вина, ни пива, ни перебродившего кваса… Свинину в рот не брала, мертвечину не ела, и мяса хищников тоже… Разреши крикнуть, апа, легче мне станет, чувствую, разреши крикнуть…» Боясь лечь на пол, чтобы не навлечь хворь на младенца, Банат распласталась на банном полке и царапает свой огромный живот, оставляя на туго натянутой коже яркие красные полосы. Ноги ее живут отдельно от тела – подергиваются, сжимаются и разжимаются беспорядочно, по одной, словно у только что убитой жабы. Лицо Банат – белее простыни. А глаза – дикие.
Лоб, загривок, шея, грудь, спина у Салавата – все мокрое. Пот катится по телу обильно, как дождевая вода. Пот уже не первый, горячий и чистый, а десятый – холодный, липкий, вязкий в телесных складках. Салават уже не утирает влагу с тела: толку от этого мало. Много раз он припадал ртом к стоящему в предбаннике ведру с водой, торопливо хлебал – и снова утыкался глазами в трясущееся тело Банат, как велела эби. Мышцы его поначалу ныли длинной тягучей болью, а теперь словно наполнились водой вперемежку с иголками, онемели; и голова налилась той же колючей водой, отяжелела, то и дело пошатывается на шее, как цветок подсолнуха на стебле в ветреный день. В уши его словно набили сена, а в глаза подпустили тумана, но Салават даже рад этому: стало легче ждать прихода его времени.
– Во время нечистых дней к мужу по ночам не приходила… Мыслей грязных ни о ком не имела… Разреши же крикнуть, апа…
– Хватит скулить! – приказывает эби. – Полезай ко мне на хребет, палая ослица!
Она взгромождает ослабелое тело Банат на себя: спиной к спине, затылком к затылку, гибким молодым позвоночником – к выпуклому горбу, тяжелыми черными волосами – к легчайшим седым прядям, гладким белым телом – к бурому шишковатому тулову. Руки Банат эби кладет себе на плечи, продевает в них локти, прижимает к груди. Тужится, кряхтит и выпрямляет полусогнутые ноги – роженица оказывается лежащей на эби и словно выгнутой колесом: лицом почти касается потолка, тяжелые груди в синих узлах вен разметались, громадина живота смотрит вверх, ступни волочатся по полу. Покачиваясь, существо из двух слепленных в единое женщин медленно шагает по бане, пытаясь разрешиться от бремени.
– Тянись! – кричит эби из-под Банат. – Старайся! Работай, дохлая лошадь! Мне за тебя перед мужем и людьми отвечать!
Время от времени эби словно пытается подпрыгнуть на месте – подбрасывает Банат, чтобы той лучше тянулось. От порога Салавату хорошо видно, как при этом болтается из стороны в сторону опрокинутое навзничь лицо Банат с приоткрытым ртом и остановившимися зрачками.
Салават берет лежащую в углу сковороду и бьет в нее оловянной ложкой, громко и часто: бэн! бэн! бэн! Эби велит бить каждый раз, когда на лице роженицы читается близость смерти. Женщина себе при родах семьдесят суставов рвет, и еще сорок дней спустя двери могилы остаются открытыми для нее. Но у некоторых рожениц печать смерти невидима, а у кого-то проступает так явственно, что не заметить невозможно. Салават всегда замечает, глаз у него чуткий, хотя и уставший сейчас. Бэн! Бэн! Бэн!
Услышав громкий лязг олова о чугун, эби сгружает вялое и податливое тело Банат на пол, кое-как прислоняет к стене; та растекается по бревнам, словно выплеснутая из лоханки сметана. Всунув пальцы в рот Банат, эби с усилием разжимает ей зубы и вынимает зажеванную и обслюнявленную прядь волос. Устало и со значением смотрит на Салавата, и тот понимает: вот оно, его время, наконец – пришло.
Салават – самое сильное и потому самое последнее средство в арсенале эби. Если он не поможет, ничто уже не поможет. Потому она оставляет его напоследок, на крайний случай, на самый тяжелый и отчаянный час. Он наступил, этот час, и теперь Салават должен постараться.
Приподнявшись на коленях, он набирает воздуха в легкие и мычит – тихо и задумчиво, как телок у материнского вымени.
– Громче, Салават! – командует эби. – Громче, мальчик мой! Тебе можно – кричи, не жалей! Выпускай боль!
Салават стонет громче. Испаряется висящий перед глазами туман, уши вновь слышат отчетливо и чутко, онемевшие было ноги и спина вновь ощущаются сильными и гибкими.
– Не слышу! – рявкает эби. – Из живота кричи, из печенки, из сердца своего, Салават! Выпусти все, что накопил за ночь, – всю боль! Она же разорвет тебя, если не выпустишь! Кричи!
И Салават кричит. Его ребра, много часов зажатые напряженными мышцами груди и спины, теперь с наслаждением расширяются на вдохе и облегченно опадают на выдохе, гортань радостно гудит, выпуская к потолку протяжный низкий звук: а-а-а-а!
Трудная это работа – выпускать боль.
– А-а-а-а-а-а-а-а!
Банат плачет – беззвучно скалится, отвернув лицо к стене, и трясет плечами. Тряска эта постепенно передается рукам, развалившимся на две стороны грудям, огромному животу, ногам – и превращается в мелкую напряженную дрожь. Дрожь бьет все тело Банат, оно сползает на пол и, выгибаясь, трепещет на сене, как выброшенная на траву плотва.