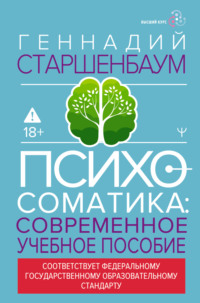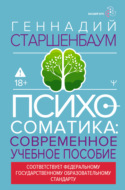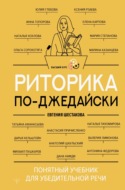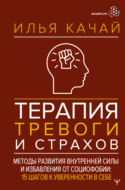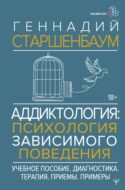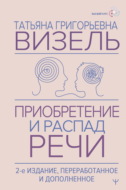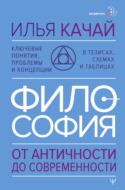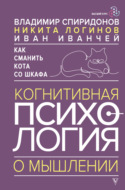Czytaj książkę: «Психосоматика. Современное учебно-практическое руководство»
© Старшенбаум Г. В., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Введение
Психосоматика развивается на пересечении нескольких наук. Она изучает влияние эмоций на физиологические процессы и является предметом исследования психофизиологии. Как отрасль психологии она исследует психологические механизмы, воздействующие на физиологические функции, и поведенческие реакции, связанные с заболеваниями. Как раздел психотерапии она ищет способы изменения деструктивных для организма способов эмоционального реагирования и поведения. Она служит купированию соматических симптомов и, следовательно, находится в рамках медицины. Как социальная наука она исследует распространенность психосоматических расстройств, их связь с культурными традициями и условиями жизни.
Термин «психосоматика» ввел в научный оборот И. Хайнрот (Heinroth, 1818). Он объяснял происхождение соматических болезней больной совестью (Сверх-Мы), которая через самосознание и интеллектуальное обеспечение радости жизни (Эго) влияет на сферу инстинктов.
В 1950 г. Ф. Александер (2022) выделил семь классических психосоматических болезней: эссенциальная (первичная) гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, колит, ревматоидный артрит, гипертиреоз и нейродермит. Отличительными чертами этих болезней являются первостепенное участие в их происхождении специфических психологических факторов и выраженные субъективные реакции больных на свою болезнь. У таких больных имеются объективные признаки соответствующих болезней, укладывающиеся в известные клинические рамки.
Эти признаки не обнаруживаются при соматоформных расстройствах, где нарушаются только функции организма и медицинские обследования не находят какой-либо патологический процесс, соответствующий постоянным соматическим жалобам пациента. Характерной особенностью соматоформных симптомов является то, что они появляются или усиливаются при волнении и исчезают во сне, а также под воздействием гипнотических внушений, имеют особую устойчивость перед медикаментозным лечением и выраженную тенденцию к хронизации.
В настоящее время отличительной чертой соматоформных расстройств признается не наличие необъяснимых соматических симптомов, а то, как пациент представляет их себе и интерпретирует. Вместо устаревшего критерия отсутствия медицинского объяснения соматических симптомов соматоформные расстройства диагностируются теперь на основании наличных признаков (соматические симптомы дистресса плюс аномальные мысли, чувства и поведение в ответ на эти симптомы).
Данное учебно-практическое руководство составлено на основании обобщения и систематизации современной мировой литературы по психосоматике и многолетнего опыта практической работы автора с людьми, страдающими различными формами психосоматических расстройств и преподавания авторского курса основ психосоматики.
Диагностические критерии психосоматических и сходных расстройств, описываемых в данном руководстве, соответствуют Международной классификации болезней МКБ-101, используемой в России, и дополнены сведениями из МКБ-112, а также «Диагностического справочника Американской психиатрической ассоциации DSM-5»3.
Руководство соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. Каждая глава завершается списком ключевых слов, контрольными вопросами и заданиями. Приложения в конце руководства содержат диагностические тесты, учебную программу изучения дисциплины, список основной современной литературы по психосоматике и словарь терминов.
Основные аспекты психосоматики
Биопсихосоциальный подход
При постановке диагноза психосоматического расстройства и проведении адекватной терапии современный биопсихосоциальный подход требует учитывать взаимодействие соматических, психологических и социальных функций пациента (Uexküll Th., 1997).
Основы биопсихосоциального подхода в психосоматике были заложены Дж. Энджелом (Engel, 1977) (рис. 1).

Рис. 1. Уровни детерминации здоровья по Дж. Энджелу
Признавая генетическую предрасположенность заболевания, Энджел в то же время видит символическое обусловливание нарушения. Возникновение болей он расценивает как самонаказание в связи с потерей объекта. Именно реальная или символическая потеря объекта либо угроза такой потери приводит к отказу от веры в будущее, что, в свою очередь, ведет к снижению иммунитета. Особенно велика роль аутоиммунных механизмов при астме, спастическом и язвенном колите, а также раке.
Биопсихосоциальная модель возникновения психосоматических расстройств предполагает, что в их формировании у детей основное значение имеют патология беременности, травмы в родах, детская невропатия, последствия черепно-мозговой травмы и нейроинфекций. Следствием этого являются вегетососудистые расстройства, плохая переносимость жары, духоты, резких запахов, езды в транспорте, повышенная утомляемость, снижение памяти, отставание в учебе.
Ребенок, тревожно относящийся к неприятным ощущениям, может подумать, что с ним происходит что-то опасное. Такая мысль неизбежно порождает у него чувство тревоги, которое сопровождается выбросом адреналина. В результате появляются учащенное сердцебиение, одышка, дрожь и т. д. Эти симптомы тревоги суммируются с изначальными легкими физиологическими сдвигами и приводят к их усилению.
Так образуется порочный психосоматический круг: физиологические сдвиги на фоне обычных стрессоров – мысль о неблагополучии – тревога – усиление физиологических проявлений – тревожное прислушивание к неприятным ощущениям и, даже в их отсутствие, постоянные проверки состояния организма – провокация, усиление и фиксация телесных ощущений.
У таких детей легко происходит трансформация трудноразрешимых психологических проблем в жалобы соматического характера (соматизация, бегство в болезнь). Причиной психосоматического расстройства может быть чувство вины с потребностью в самонаказании. Имеет значение и условная выгода от симптома, позволяющая избежать наказания или получить какие-то поблажки.
Хронические симптомы воспринимаются как меньшее зло по сравнению с необходимостью справляться с трудной ситуацией. Ребенок готов быть похожим на кого-то, в том числе тревогой за здоровье, особенно если это сопровождается соответствующими внушениями. Родители детей с психосоматическими расстройствами обычно плохо осознают и выражают словами свои эмоции.
Согласно исследованиям Д. И. Исаева (2005), патогенез психосоматических расстройств имеет многофакторную структуру и включает в себя:
1. Наследственную предрасположенность к психосоматическим расстройствам.
2. Неспецифическую наследственность и врожденную отягощенность соматическими нарушениями.
3. Нейродинамические сдвиги (нарушения деятельности центральной нервной системы).
4. Личностные особенности.
5. Специфические черты психотравмирующих событий.
6. Неблагоприятный фон семейных и других социальных факторов.
7. Психическое и физическое состояние на момент действия психотравмирующих событий.
Д. Оудсхоорн (1993), следуя биопсихосоциальному подходу, рассматривает психосоматические расстройства у детей и подростков на шести уровнях (рис. 2).
1. Среда. Социальный стресс: напряженные отношения с соседями, безработица, ощущение опасности, трудности в школе.
2. Семья. Семейный стресс: недостаточная устойчивость к социальному стрессу, больной ребенок, семейная патология. Закрепление.
3. Я. Недостаточная устойчивость к социальному стрессу, к семейному стрессу, к собственному заболеванию, недостаточное чувство уверенности в себе, негативный образ себя, низкая самооценка, телесный язык (симптоматическая коммуникация) при неудачной реализации вербальных, когнитивных и эмоциональных возможностей выражения.
4. Психодинамика. Внутрипсихический конфликт: защита нежелательных мыслей, чувств и порывов; выход из агрессии, подавленности, тревоги; наказание за агрессивные чувства по отношению к родителям.
5. Личность. Дефекты: неадекватная невыразительность эмоций, связь соматических ощущений и психических переживаний, наследственные и конституциональные факторы, нарушения темперамента и личностные расстройства.
6. Тело. Чрезмерное возбуждение ведет к расстройствам, заболеванию: через подкорку, гипоталамус, вегетативную систему, органы; через кору и скелетные мышцы; через гипоталамус, гипофиз, гормоны и органы. Аномальный отбор поступающей информации. Экзогенные вредные воздействия.

Рис. 2. Системная модель пациента по Д. Н. Оудсхоорну
П. И. Сидоров (2014) разработал синергетическую биопсихосоциодуховную концепцию онтогенеза, представленную четырехмерной моделью, состоящей из векторов сомато-, психо-, социо- и анимогенеза (табл. 1).
Анима, анимус (лат. anima – душа и animus – дух) – понятия, выражающие в древнегреческой культуре феномен духовного и выступающие этапами эволюции его осмысления: если анима (душа) неотделима от своего телесного носителя, то анимус (дух) обладает статусом автономии. Анимогенез – термин, интегрирующий представления о душе и духе, обозначает центральную четвертую часть предложенной онтогенетической модели.
Основные плоскости онтогенеза проникают друг в друга, определяя переходные зоны и центральную часть, содержанием которой является сознание – высший уровень саморегуляции и отражения действительности, на котором аккумулируется духовно-нравственный потенциал.
Таблица 1. Биопсихосоциодуховная модель онтогенеза

В развитии соматоформных расстройств П. И. Сидоров выделяет три группы факторов.
• Наследственно-конституциональные: конституционально-типологические особенности ЦНС и личностно-акцентуационные особенности.
• Психоэмоциональные или психогенные, факторы: острые и хронические факторы внешнего воздействия, опосредованные через психическую сферу, имеющие как когнитивную, так и эмоциональную значимость и в силу этого играющие роль психогении.
• Органические факторы: различного рода преморбидная органическая (травматическая, инфекционная, токсическая и др.) уязвимость интегративных церебральных систем.
Первый (социогенетический) этап формирования психосоматических расстройств, начинается в раннем детстве в процессе социализации и зависит от особенностей взаимодействия с родителями и условий воспитания ребенка.
На втором (психологическом) этапе происходит воздействие специфического для личности стрессора и его взаимодействие с наиболее значимой для личности «жизненной сферой». Третий (психофизиологический) этап подразумевает взаимодействие стрессора с психофизиологическими особенностями.
Во время четвертого (физиологического) этапа происходит взаимодействие физиологической реакции на стресс с генетически слабыми местами и состоянием соматической сферы человека.
Пятый этап (функциональных нарушений) характеризуется формированием функциональных расстройств.
Для шестого этапа развития психосоматических расстройств характерно формирование органического расстройства – психосоматического заболевания (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет).
Седьмой этап связан с обострением психосоматического заболевания.
Таким образом, психосоматическое расстройство возникает под воздействием специфического для личности стрессора, который, взаимодействуя с наиболее значимой «жизненной сферой» личности при наличии определенной психофизиологической предрасположенности, вызывает соответствующие нейрофизиологические реакции с вовлечением в ответ внутренних органов.
М. Малер (2018) ввела понятие «психосоматическая мать», то есть авторитарная, доминирующая, открыто тревожная, требовательная и навязчивая мать, сохраняющая симбиотический телесный контакт с ребенком, что тормозит становление более поздних форм взаимодействия.
Значение идентификации психосоматика с материнской фигурой подчеркивал и Дж. Энджел (Engel, 1977). Не получив доступа к неэмпатичной матери, младенец формирует идолопоклоннический перенос, при котором все доброе приписывается только идеализированной матери, поэтому ее любовь необходимо получить любой ценой.
П. Марти (Marty, 1991) видел роль задержки на симбиотическом уровне в недостатке дифференциации субъект – объект, результатом чего является неспособность к процессу переноса и к эмпатическим отношениям с объектом. Мать чрезмерно опекает ребенка, постоянно успокаивает его, в связи с чем он может засыпать только у нее на руках. В результате у ребенка сохраняется симбиотическая связь с матерью на языке тела и не развивается способность к выражению своего состояния с помощью знаков и символов. Эта позиция может затем подкрепиться многолетним наблюдением у врачей-интернистов.
Для психосоматической семьи нехарактерно поощрение свободного выражения переживаний, вследствие чего ребенок присваивает стереотипы подавления эмоций, что приводит к их соматизации. Подавление отрицательных эмоций может быть связано с тем, что в семье принят стереотип терпения, отношения к болезни как к состоянию, в котором виноват сам человек.
Описание типичных паттернов психосоматической семьи предлагает С. Минухин (2012):
• симбиотическая связь с формированием зависимости ребенка;
• гиперопека со сверхчувствительностью к дистрессу членов семьи;
• ригидность правил и норм с плохой адаптацией к новым ситуациям;
• конфликтофобия с накоплением скрытых семейных конфликтов;
• использование болезни ребенка в качестве буфера в супружеском или семейном конфликте.
Х. Штирлин (Stierlin, 1978) выделил три типа отношений в родительских семьях психосоматических больных:
• «связывание» – характеризуется жесткими стереотипами коммуникаций; дети инфантилизируются, отстают в эмоциональном развитии;
• «отвержение» – ребенок вынужден отказываться о своей личности, развиваются аутистические тенденции;
• «делегирование» – родители ожидают от детей реализации собственных несбывшихся надежд, манипулируют ими как проектами своего «Я».
Р. А. Лурия (1977) вслед за О. Бумке (Bumke, 1925) подчеркивал значение медицинских факторов, способных оказывать влияние на внутреннюю картину болезни. К ним относятся взаимоотношения врача и больного, роль медицинского персонала и воздействие обстановки лечебного учреждения, включая влияние на пациента других больных. Например, непонимание врачом состояния пациента, его личностных особенностей, неумение организовать эффективные взаимодействия приводят к тому, что внутренняя картина болезни трансформируется и человек начинает чувствовать себя тяжелобольным.
Лурия в своей монографии выделяет два типа ятрогенных (вызванных медиком) заболеваний. Первый тип характеризуется тем, что пациент страдает не от серьезного органического заболевания, а скорее от функционального расстройства, но неправильно понимает слова врача, принимая свою болезнь за неизлечимую или тяжелую. Второй тип определяется как наличие у пациента тяжелого заболевания, которое усугубляется вслед за неосторожными словами врача.
Отсюда следует, что физически здоровый или больной человек с неглубокой патологией может чувствовать себя тяжелобольным, а его внутренняя картина болезни из-за непрофессионализма врача приобретет негативную окраску. В качестве источников ятрогений часто выделяют неумелое использование врачом латинских терминов и употребление жаргона.
Н. Д. Лакосина с соавторами (2007) описывает соррогению (лат. sorror – сестра) как ухудшение состояния больного, обусловленное неправильным действием медсестры. Оно может выражаться в попытке вмешаться в лечебный процесс, негативных высказываниях по поводу назначений и лечебного процесса, рутинном выполнением своих обязанностей.
Вместе с этим значимым в развитии внутренней картины болезни пациента является общение с другими больными. Влияние больных друг на друга может быть прямым (рассказы о симптомах, запугивание осложнениями и др.) и косвенным – наблюдение за лечебным процессом, восстановление после операции. Отрицательное влияние одних больных на психическое и физическое состояние других, что ведет к появлению новых симптомов или усилению уже имеющихся, автор называет эгротогенией (лат. aegrotus – больной).
Н. Д. Лакосина отмечает, что важную роль в формировании внутренней картины болезни играет госпитализм. Он может проявиться в привычке жить в больничных условиях, в отсутствии стремления покинуть ее, в отказе от борьбы за выздоровление, в неверии в социальную и трудовую реадаптацию.
Р. Шпиц (2019) описал анаклитическую депрессию (греч. anaklitos – опирающийся) у младенцев, разлученных с матерью. В течение первого месяца ребенок становится боязливым, раздраженным, плаксивым, требовательным, цепляется за взрослых. В это время он может проявлять повышенную раздражительность, агрессию к другим детям, биться головой о край кровати, наносить себе удары по голове, вырывать волосы целыми прядями.
На второй месяц течения депрессии плач часто переходит в рыдания, у младенца отсутствует чувство удовольствия, исчезает аппетит. Характерны широко открытые глаза с отсутствием слежения взором, печальное, безучастное выражение лица, отсутствие ответной улыбки, трудность установления контакта. Наблюдаются психомоторная заторможенность, нарушения суточного ритма сна-бодрствования, сосания и пищеварения, потеря в весе, иногда эпизодически повышается температура тела.
На третьем месяце плач сменяется хныканьем, ребенок отказывается от контакта, большую часть времени лежит на спине. Характерны широко открытые глаза с отсутствием слежения взором, печальное, безучастное выражение лица, психомоторная заторможенность, трудность установления контакта, отсутствие чувства удовольствия.
При отсутствии необходимого контакта со взрослыми (прежде всего с матерью) ребенок в возрасте более 5 месяцев не интересуется игрушками и не просится на руки, а в 8 месяцев не проявляет признаков привязанности к родителям. Он выглядит унылым, пассивным и безразличным, производит впечатление аутичного.
Происходит замедление, вплоть до остановки в психомоторном, речевом и физическом развитии. Появляются двигательные стереотипии в виде раскачивания телом, головой, сосания пальца и языка. Далее нарастают апатия, беднеет спонтанная активность, замедляется реакция на внешние раздражители. Повышается восприимчивость к простуде и другим заболеваниям. При нормализации ухода за ребенком в возрасте до 2–3 лет эти явления обратимы. Дальнейшее пребывание в условиях запущенности приводит к маразму и смерти.
Обычно родители таких детей или другие опекающие лица практикуют жестокие наказания, постоянно игнорируют их основные потребности в любви, комфорте, игре, питании, физической безопасности. С психоаналитической точки зрения агрессивное влечение, оставшись без взаимодействия с материнской фигурой, обращается на самого ребенка.
Биологический аспект
Еще Гиппократ (IV–V вв. до н. э.) и Гален (II в.) связывали предрасположенность к определенным болезням с различным темпераментом – соматопсихической конституцией. Считалось, например, что сангвиники склонны к болезням кровообращения, а холерики и флегматики – к болезням желчных путей.
В 1921 г. в работе «Строение тела и характер» Э. Кречмер (1998) связал темперамент с типом строения человеческого тела.
Шизотимик (соответствует меланхолику) замкнут, эмоционально хрупок, упрям, мало податлив к изменению установок и взглядов, с трудом приспосабливается к новой обстановке. Он имеет астеническое телосложение: высокий рост, плоскую грудную клетку, узкие плечи, длинные и худые ноги, нежную мускулатуру. Ему грозит туберкулез легких и язва желудка.
Иксотимик (соответствует флегматику) ведет себя как спокойный, мало впечатлительный человек со сдержанными мимикой и жестами, с невысокой гибкостью мышления, часто бывает мелочным. Он обладает атлетическим телосложением, у него высокий или средний рост, широкие плечи и узкие бедра. Он склонен к эпилепсии, мигрени и инфаркту миокарда.
Циклотимик (соответствует холерику) пребывает то в радости, то в печали, он легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах. Он имеет сутуловатую бочкообразную фигуру с круглой головой на короткой шее и короткими конечностями, у него малый или средний рост, чрезмерная тучность и большой живот. Он предрасположен к ревматизму, атеросклерозу и болезням печени.
X. Эппингер и Л. Хесс (Eppinger, Hess, 1909) ввели термин «вегетативная дистония», означающий несогласованность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. К этому времени уже было известно, что преобладание тонуса симпатического отдела соответствует холерическому темпераменту, а парасимпатического – флегматическому.
Вегетативная дистония возникает у агрессивного холерика, когда он переживает пассивно-оборонительную реакцию. Под влиянием парасимпатической стимуляции у него может развиться стенокардия, бронхиальная астма, язвенная болезнь, гипертиреоз. У осторожного флегматика, сдерживающего побуждение к нападению, симпатическая стимуляция способна вызвать гипертоническую болезнь, инсульт, инфаркт миокарда, сахарный диабет.
В 1915 г. У. Кеннон (Кеннон, 1927) показал роль симпатической нервной системы, надпочечников и таламуса в механизмах эмоционального поведения. Тем самым были опровергнуты представление М. Якоби (Jacobi, 1825) о соматогенном происхождении психосоматических расстройств и «периферическая» концепция эмоций Джеймса – Ланге (James, 1884; Lange, 1885), согласно которой аффекты непосредственно отражают мышечные, сосудистые и висцеральные изменения.
У. Кеннон (Cannon, 1932) ввел термины реакция «бей или беги», стресс и гомеостаз. Под последним понимается способность организма сохранять постоянство своих функций при воздействии факторов внешней и внутренней среды. Он выяснил, что гнев и страх возбуждают нейрогуморальный центр вегетативной нервной системы – гипоталамус, который стимулирует надпочечники. В состоянии гнева надпочечники вырабатывают адреналин, а при переживании страха – норадреналин. Чтобы обеспечить организм энергией для нападения или бегства, в кровь усиленно выделяется сахар.
Чтобы кровь обильнее поступала к мышцам, повышается давление крови и учащается сердцебиение. Если необходимость в мобилизации сохраняется, защитные механизмы (нейрогуморальные, висцеральные, двигательные) должны оставаться активными более длительное время. Это может вызывать функциональные, а затем и органические нарушения затронутых систем.
В 1946 г. канадский патолог Г. Селье (1982) описал патогенез стресса, расширив данные Кеннона понятием адаптационною синдрома, под которым понимаются неспецифические реакции организма на «критические» воздействия, нарушающие его гомеостаз. В течении этой реакции различают три фазы: тревоги, сопротивления и истощения.
В фазе сопротивления организм готовится к отражению угрозы или бегству, симпатическая нервная система организует процесс мобилизации, происходит реакция со стороны гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. Из коры надпочечников выделяется адреналин, в результате начинает сильнее и чаще сокращаться сердце, повышается давление крови, расширяются артерии, питающие миокард и скелетные мышцы, возрастает сила этих мышц. Расширяются бронхи, углубляется дыхание, усиливается потоотделение. Активизируется обмен веществ, и из печени в кровь поступает глюкоза.
Одновременно снижается тонус мышц желудочно-кишечного тракта, сужаются брюшные артерии, тормозится процесс пищеварения и выделения, прекращается секреция. У человека краснеет кожа, появляется ощущение жара, расширяются зрачки, повышается способность к концентрации, переключению и распределению внимания, улучшается память. Эту стадию Селье назвал эустрессом (греч. eu – хорошо). Если действия в фазе сопротивления не приводят к успеху, наступает фаза истощения, в которой происходит слом регулирующих нейрогуморальных механизмов с необратимыми органическими последствиями, – дистресс (греч. dys – плохо).
На переходе к дистрессу человеческий организм разряжает накопившееся напряжение с помощью вегетативных кризов. Напряжение делается чрезмерным, частота пульса превышает 100 ударов в минуту, учащается дыхание. Кожа бледнеет или покрывается белыми и красными пятнами, возникает озноб, суетливость, становится трудно управлять вниманием, ухудшается память.
Позднейшие исследования позволили уточнить роль парасимпатической нервной системы в развитии психосоматических расстройств. В обычных условиях она обеспечивает накопление и сохранение ресурсов, в результате ее активности в кровь поступает кортизол и другие кортикостероиды. Они уравновешивают процессы возбуждения, например смягчают воспалительные явления за счет снижения активности киллерных клеток иммунной системы.
В современном цивилизованном обществе нормы социального общежития защищают человека от острых стрессов, однако за это ему приходится платить хроническим дистрессом – постоянным внутренним перенапряжением при попытках сдержать свои желания и чувства. Развитию психосоматических расстройств способствуют и неотреагированные эмоции. Печаль, не выплаканная слезами, заставляет «плакать» другие органы.
Иммунная система предупреждает развитие инфекций и опухолей, обнаруживая и уничтожая антигены – чужеродные субстанции и собственные клетки-мутанты. Этим занимаются лимфоциты, циркулирующие в лимфе и крови. Норадреналин на ранней стадии стресса стимулирует активность лимфоцитов, однако затем начинает подавлять ее. В результате иммунитет ослабляется, легко развиваются инфекционные, аллергические и онкологические заболевания.
Нейромедиаторы – это химические вещества, которые синтезируются в нейронах, содержатся в пресинаптических окончаниях и в ответ на нервный импульс высвобождаются в синаптическую щель. Нейромедиаторы воздействуют на специфические рецепторы клеточной мембраны и изменяют ее проницаемость для определенных ионов, генерируя потенциал действия – активный электрический сигнал. В центральной нервной системе роль медиаторов осуществляют дофамин, серотонин, ацетилхолин, норадреналин, глицин, глутаминовая и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
Нейромодуляторы не обладают самостоятельным действием, но влияют на эффекты медиаторов. Они вырабатываются в нейронах и окружающих их глиозных клетках и действуют, помимо постсинаптической мембраны, также на другие участки нейронов. К нейромодуляторам относятся, в частности, опиоидные пептиды, такие как динорфины, энкефалины и эндорфины. Недостаток эндогенных опиатов вызывает состояние скуки и мрачного недовольства, а их избыток создает чувство кайфа, эйфории.
Динорфины способствуют успокоению, а энкефалины обеспечивают аналгезию и положительное подкрепление. Эндорфины вызывают ретроградную амнезию (забывание событий, предшествовавших травме), подавление исследовательской активности, стимуляцию эмоционального поведения и двигательной активности. Они выделяются, в частности, во время усиленных физических нагрузок. Например, анандамид вызывает эйфорию, которая проявляется как «пик бегуна» и тяга к тренировкам, а также выравнивает настроение при легких формах депрессии. Кроме того, он облегчает переносимость боли при спортивных травмах.
Серотонин и ацетилхолин тоже могут играть роль модуляторов, поскольку к ним имеются соответствующие рецепторы. Серотониновая система тормозит активность, ведущую к тревоге или агрессии; низкий уровень серотонина связан с депрессией. Норадреналин имеет отношение к побуждающим, мотивационным аспектам поведения.
Нейромедиатор дофамин, взаимодействуя с эндорфинами и серотонином, обеспечивает положительные эмоции, связанные с пищевым, питьевым и половым поведением. Воздействие дофамина модулируют, в частности, глутаминовая кислота и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Глутаминовая кислота (в просторечии – глутамат) участвует в обучении, развитии и созревании нервной системы. Одни рецепторы глутамата обеспечивают быстрые синаптические ответы посредством повышения входа в клетку ионов натрия, другие опосредуют синаптические ответы большей длительности путем изменения проницаемости для ионов кальция, натрия и калия.
ГАМК осуществляет тормозящие эффекты через специфические рецепторы, стимуляция которых приводит к появлению анксиолитического (противотревожного), седативного (успокаивающего) и миорелаксирующего (расслабляющего) эффекта. Патогенез многих психосоматических нарушений связан со снижением активности ГАМКергических нейронов. В результате активируются другие нейроны, что находит проявление в психосоматических симптомах (Дробижев и др., 2013, 2017).
Так, гиперактивность серотониновых нейронов сопровождается дискомфортом в животе и в эпигастрии, тошнотой, позывами на рвоту или дефекацию, головными болями по типу мигренозных, внутренней напряженностью, тревогой.
Повышение активности гистаминовых нейронов ассоциируется с нарушением сна, головными болями, бронохоспазмом, изжогой, кожным зудом. Активация норадреналиновых и глутаматных нейронов вызывает учащенное сердцебиение, боли в области сердца, головокружение, колебания артериального давления, учащенное дыхание, удушье, суетливость, мышечные боли напряжения, дрожь и невозможность расслабиться.
Дофаминовые и норадреналиновые нейроны отвечают за внимание, удовлетворение, мышление, скорость психомоторных процессов и половые функции. Торможение этих нервных клеток серотониновыми нейронами приводит к отключению внимания, общей слабости, снижению либидо, задержке эякуляции, нарушению оргастической функции.
Снижение активности серотониновых и норадреналиновых нейронов (СЕН и НАН) сопровождается хандрой, раздражительностью, недовольством, беспокойством, нервозностью. Снижение активности всех трех групп нейронов – дофаминовых, серотониновых и норадреналиновых – сопровождается снижением аппетита, болевыми и другими тягостными, неприятными ощущениями.
Дефицит активности СЕН и НАН сопряжен с нарушением работы обезболивающих систем головного мозга. В результате формируются локализованная (постоянная, тяжелая) или разлитая костно-мышечная боль, которая диагностируется как устойчивое соматоформное болевое расстройство (хроническая боль) или фибромиалгия (соответственно). С подробной симптоматикой расстройств, связанных со снижением активности нейронов, можно ознакомиться в таблицах № 2 и № 3.
Таблица 2. Активность нейронов при тревожных расстройствах

Примечание: СЕН↓ серотониновые нейроны, ГАН↓ гамкергические, НАН↓ норадреналиновые, ДАН↓ дофаминовые.
Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. – Geneva: World Health Organization, 2024.
A Psychological Approach to Diagnosis: Using the ICD-11 as a Framework. – Washington, DC: American Psychological Association, 2024.
ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (who.int).
First M. B. Dsm-5-tr Handbook of Differential Diagnosis. – Washington, DC: American Psychiatric Association, 2024.