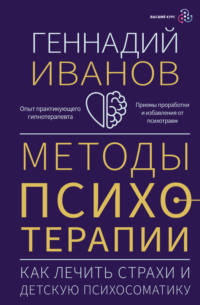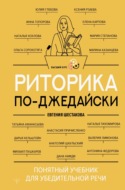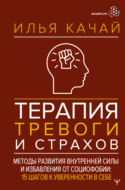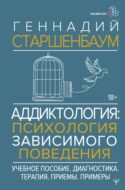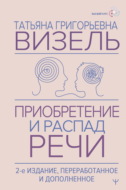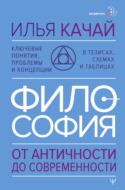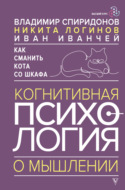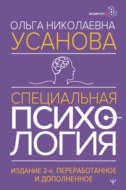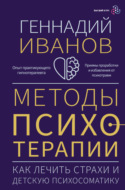Czytaj książkę: «Методы психотерапии. Как лечить страхи и детскую психосоматику», strona 3
Разговор по душам
Душа – христианка. Это утверждение философа Тертуллиана, означающее, что душа относится к горнему миру, где правит Христос, поэтому все мы вне зависимости от нашего мировоззрения христиане, мне вспомнилось в связи с моей работой. Второй раз в практике обращение к идее души в работе с ребенком дало отличный результат. Судите сами: ребенок потерял отца и пребывал в одной из форм депрессии. Довольно стандартный случай, но усилия психологов эффекта не дали. Совсем. Я попробовал отвлечь мальчика от гнетущих мыслей рассказом о том, что папа на самом деле не умер, а живет в другом мире, расставшись со своей оболочкой, и теперь все время следит за своим любимым сыном. Радуется, если у того получается, огорчается, если что-то не выходит. Усилия трех профессионалов до этого не возымели действия, а эта невзыскательная новелла оказала волшебный эффект. Мысль о душе папы зашла настолько хорошо, что расстройство, приводившие маму в отчаянье, улетучилось. Мальчик полностью вошел в норму.
Другой случай тоже был связан со смертью близкого человека. У подростка умерла бабушка, которая на смертном одре наговорила ему такого, что после похорон у парня открылась астматическая одышка. Родители заметались по экстрасенсам, колдуньям, психологам, пока не оказались у меня, а я вновь применил идею души. В гипнотическом сеансе организовал диалог умершей бабушки с внуком, где был достигнут консенсус. Парень освободился от одышки. Полностью. Опять мы наблюдаем благотворное воздействие представления о жизни после жизни, если его использовать как инструмент в терапевтической практике. О длительности эффекта говорить не могу, статистики пока нет.
Потенциал сепарации
В терапии потерь самое главное – готовность пациента отпустить близкого человека. Не секрет, что одно из худших переживаний в жизни – это быть покинутым, брошенным. Причем речь идет не о физическом одиночестве, а о духовном.
Например, сознание того, что тебя любят и ждут, позволяет людям сравнительно легко пережить даже длительные сроки тюремного заключения. В то же время известное всем чувство «одиночества в толпе» порой доводит до суицида. Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть: в каждом из нас рулит духовная, а не материальная сущность. И способность пережить смерть мамы или любого другого близкого человека связана как раз с духовностью, то есть с психикой, которая формируется извне.
В современной теории привязанности отношение взрослого к младенцу уже давно определяется по параметру, как тот «живет в нем». Раньше главным фактором формирования личности считалось общение («совместная деятельность»), а теперь во многих зарубежных да и отечественных работах (например, Сытько М.В.) сквозит мысль: отношение взрослого к младенцу на начальном этапе и есть начальная сущность его психики.
Выготский Л.С. называл суть этой коммуникации «знаками без значения», понимая ее как процесс создания в младенце той самой структуры, которая обеспечивает саму возможность семантического означивания. Его «знаки» без конкретного семантического наполнения – это базовое условие формирования диалогового механизма с внешней средой, то есть основа личности. Понятно, что качественный спектр лиц, стоящих у колыбели с младенцем, достаточно велик. И вся психология держится на том обстоятельстве, что значительная часть этих лиц ущербны по отношению к чаду. И, соответственно, «знаки без значения» как матчасть будущей личности формируются с отклонениями.
В нашем случае речь идет о проблемах, связанных с сепарацией личности, то есть ее отделением от материнской основы. Это происходит, как правило, в восьмилетнем возрасте, но процесс иногда затягивается на всю жизнь. В таких случаях смерть близкого человека оборачивается нескончаемым страданиями, потому что несепарированная личность хоронит часть самого себя. Человек в этот момент ощущает опасность, ненужность и прочие симптомы плохой организации окружающего мира. На самом деле ему не хватает тех самых семантических форм – «знаков без значения», которые были недополучены от усопшего. Зияющие дыры в мозаике сознания, которые возникли после его смерти, – это и есть источник опасности, чем является всякая неизвестность (читай – необозначенное, неназванное).
У психолога в этом случае два варианта. Первый – долгий, связанный с выращиванием недостающих в сознании пациента значений. Второй – быстрый, основанный на внушении пациенту этих значений. Понятно, что один способ надежный, а другой рискованный, но это уже отдельная тема.
О том, как образ собаки стал ключом к резервуару родовой памяти
Этот необычный случай до сих пор остается для меня загадкой. Обратился мужчина, которого спорадически мучали головные боли. Весь круг – врачей, травников, бабок, экстрасенсов, святых мест – он прошел. Иногда отпускало, но не более.
Очевидно, этот опыт сделал мужчину философом, и от общения со мной он многого не ждал. Возможно, поэтому первый сеанс не задался, а второй грозил оказаться последним, потому что мне обреченно предлагали искать там, где тысячу раз уже искали. Безуспешно. Даже ключевой фактор – стресс, когда в 17 лет трагически погибла любимая собака, мой подопечный рассказывал привычно. Привязанная на улице в загородном доме собака замерзла в лютый мороз. У парня случился сердечный приступ, он оказался в больнице. Собаку нашли мертвой. Прощаться с умершим по его вине псом он не стал. Попросил похоронить без него. Больше в загородный дом ни ногой. Как раз в это время начались головные боли. Потом они прекратились и больше не возвращались, пока спустя много лет мужчина не изменил своей беременной жене. Головные боли вернулись, словно напоминая о старом кошмаре.
Я начал стандартную терапию потерь. Мой подопечный последовательно перепроживал травматические эпизоды, в том числе глазами умершей собаки, эмоционально освобождался. Где-то даже до слез.
Казалось, мы идем к финалу, но меня ждал неприятный сюрприз: оживший от долгого контакта образ собаки не уходил. Это могло означать только одно – его подпитывают еще не открытые психотравмы более раннего происхождения. Не успел я привыкнуть к этой мысли, как образ собаки трансформировался в образ каторжного бремени – камень на цепи, прикованной к ноге. Чтобы ходить, этот камень надо носить в руках. Сразу после этого пациент вдруг вспомнил раскулаченного прадеда, брат которого умер от голода. Потом пошли воспоминания о военных годах – невзгоды беженцев, среди которых семья моего подопечного. От болезней и ран она поредела наполовину. Причем открывались подробности, который мой пациент знать не мог. Он видел, например, глазами прадеда сестру, о которой ничего не знал. Глазами деда видел своего дядьку, который погиб, утонув в болоте, раненый своими же. Два часа мы перебирали неожиданный «семейный альбом», где всплывали персонажи, о существовании которых, по признанию самого пациента, он не догадывался.
Родовой склеп, как оказалось, содержал много эмоций, и когда мы их выпустили, головные боли ушли. Насовсем. Очевидно, ассоциация преданной собаки с кандальным камнем – метафорой судьбы некогда большого рода, открыла те подвалы сознания, в которых хранились родительские части, содержавшие в себе образы, с которыми мой подопечный не имел ничего общего. Кроме передаваемых не генетическим способом представлений. В любом случае, исходя из полученного опыта, мы можем сделать вывод о существовании в каждом из нас резервуара под названием «родовая память». Просьба не путать с родовой легендой, потому что унаследованные представления не связаны с тем, что говорили моему подопечному старшие родственники. Во всяком случае, он этого не помнит. Резервуар может иметь повышенное давление, которое тоже передается по наследству и которое, как мы можем видеть, можно сбросить.
О любви
Любовь как предмет обсуждений с психотерапевтом связана со страхом, обидой, стыдом, виной, огорчениями, которые человек испытывает. Но бывают исключения. Ко мне как-то обратился пациент, который испытал абреакцию в отношении к чужой истории любви.
Он пришел ко мне с жалобой на лень, нерешительность и обидчивость. Как объект психотерапии он оказался удобным: отсутствие гипнабельности с лихвой компенсировалось живой связью эмоций и нервных окончаний. Он очень хорошо чувствовал свое тело.
Так вот, уточняя отношения пациента с ближним кругом, я обнаружил напряжение только в отношении одного из них – деда. Пришлось погрузиться в семейную историю, где дед да бабка жили-были, а на склоне лет взяли и развелись. Потому что дед – седина в бороду – решил пожить напоследок для себя. Нашел себе молодуху и оставил бабку ни с чем. Все закончилось пошло. Дед скоро умер, наследство получила его новая жена, а бывшая – бабушка моего пациента, ухаживала за могилой предавшего ее супруга, потому что продолжала его любить. Оказывается, она ни на минуту не отреклась от своего чувства, которое пронесла до гробовой доски, наказав похоронить себя рядом с бывшим мужем…
Когда мой подопечный говорил об этом, он испытывал отреагирование со слезами и всеми прочими атрибутами. В моей практике это был первый случай, когда удалось разрядить эмоциональное напряжение благодаря любви, которая выше всего. И я, признаться, счастлив от того, что этот колоссальный по поэтическому заряду жизненный сюжет выпал именно на мою кушетку. Мужчина тот выздоровел. По его словам, стал собраннее, тверже, а самое главное – научился прощать.
Надо ли исповедоваться психотерапевту?
Многие пациенты на приеме у психотерапевта предпочитают помалкивать о своих неблаговидных поступках. Из-за этого впустую теряется много времени. Например, был у меня пациент, который предпочитал не распространяться о повлиявшем на него случае в школьные годы, потому что начитался умных книжек, где говорилось, что все психотравмы родом из бессознательного периода. И, соответственно, свои подростковые переживания он рассматривал как следствие каких-то младенческих потрясений.
Я убил впустую два сеанса, пока не предложил: если есть воспоминания, о которых ты предпочитаешь ни с кем не делиться, не рассказывай мне ничего, но вспомни и послушай себя. Что чувствуешь? Он отвечает: чувствую напряжение. Так, понемногу подбираясь к неведомому переживанию, мы наконец-то вышли на терапевтический эмоциональный уровень. И тогда я приказал: представь как выглядит твое дискомфортное ощущение. Мой подопечный описал собачий ошейник. А потом не выдержал и рассказал, что случилось. Оказывается, семья переезжала, и домашнего любимца, кота, было решено отдать в деревню деду с бабкой. А чтобы тот не убежал, на него надели собачий ошейник и временно посадили в подвал. Там кот и погиб из-за несчастного случая. Это известие надломило мальчишку. В нем поселилось чувство вины, которое уже в зрелые годы развилось в апатию. Его не радовали даже повышения по работе, так как он не верил, что потянет.
Когда источник расстройства был обнаружен, терапия пошла бойко, и скоро мы подводили итоги: болезненная симптоматика исчезла, но она оказалась на два сеанса дороже для пациента, потому что он думал, что диалог с психотерапевтом – это не исповедь, грехи не отпустят. На практике все оказалось по-другому.
Я думаю, не важно, кто отпускает грехи. Главное – появляется ли возможность освободиться от них? Если да, то исповедь и психокоррекция равны.
Тотемное животное
На приеме была женщина с замороженной чувственностью. Жаловалась на обиду и разочарование. Я два сеанса с нулевым результатом пытался нащупать хоть что-то, вызывающее эмоции. Семья у нее была слабая, холодная. Все были заняты собой. Воспоминаний никаких.
Когда я уже было опустил руки, выяснилось, что у моей пациентки есть пес, и она в нем души не чает. Оказалось, что собак никогда не любила, взяла чужого пса на передержку, который у нее так и остался. Прикипела. Через эту часть ее личности я вошел в подсознание и все починил. После этого чувственность к женщине вернулась. Она сходила на могилы родителей и проплакалась. И все это удалось через символический образ животного. Он обладает уникальной энергией и влияет на всю жизнь человека.
Как определиться с состоянием своей психики
Меня время от времени спрашивают, особенно мнительные люди: как определить, нужна или не нужна помощь психотерапевта? Перво-наперво стоит уяснить простую вещь: все, что мы называем отклонением или расстройством, в психологии является адаптацией.
Любая гениальность или поведенческое своеобразие – это всегда форма психического отклонения, сформировавшегося как приспособление к изменившимся условиям обитания/выживания. Заболеванием мы называем только то, что мешает жить, мешает карьере. Иногда в этой роли выступают безобидные вещи.
В моей практике, к примеру, был случай, когда человек не мог переносить пение петуха. А другому мешал жить чистый воздух. То есть иррациональные реакции часто не связаны с опасностью (потому они и иррациональны), поэтому в обычных условиях мы на них внимания не обращаем. Единственное зло, которое такие странности несут, – это усталость. Как в компьютере программы-паразиты подъедают память, так и здесь мелкие бесы нашей психики потребляют нашу эмоциональную энергию, сокращая наши индивидуальные возможности. Потому что любое действие – это эмоциональный импульс. А великое действие – это эмоциональный взрыв. Не у каждого есть такой запас, поэтому не каждый из нас великий. Вот вам и цена безобидных странностей. Они на самом деле лишают нас воли. Хотя это не всегда и не у всех. Как принято говорить в таких случаях, все строго индивидуально.
Вне зависимости от того, беспокоят вас ваши отклонения или нет, вы можете устроить себе тестирование на наличие привычек-паразитов. Для этой процедуры понадобятся: 1) поясное зеркало; 2) полночь; 3) растущая (или полная) луна и 4) полное одиночество. Устройтесь поудобнее, установите зеркало напротив и некоторое время всматривайтесь в свое отражение. В какой-то момент оно «перехватит» инициативу. Вы почувствуете, что отражение всматривается в вас, и должны быть готовы к этому. Кто-то испытывает ужас. Кто-то переживает паническую атаку. Кто-то прервет процедуру. А все остальные просто «вспоминают» свои страхи и фобии – получат то, ради чего все это и было устроено. Зеркало – вещь, можно сказать, мистическая. Объяснить до конца это невозможно, но мои пациенты не раз прибегали к этой процедуре, чтобы обнажить темную сторону своего «я». И всегда становилось ясно, требуется моя помощь или нет.
Самодиагностика
У Аркадия Райкина была реприза, которая начиналась словами: «Да простят меня мужчины, но речь пойдет о женщинах», так и я сейчас скажу о собственных прозрениях. Дело в том, что мир сходит с ума, и в этом легко убедиться, читая международные сводки. На этом фоне не так уж и сложно перепутать черное с белым, то есть радикально переозначить некоторые ключевые явления окружающей действительности, что неизбежно повлечет многочисленные поведенческие конфликты, возникающие потому, что разум через измененную призму восприятия интерпретирует различные соматические импульсы. Все это происходит почти незаметно для каждого из нас, но ощущается усталость. Она накапливается и со временем становится невыносимой ношей, когда уже не обойтись без психотерапевтического вмешательства. И мне все чаще приходится отвечать на вопросы, смысл которых сводится к желанию получить метод самодиагностики, позволяющий распознать надвигающееся расстройство. Я придумал такой метод, и практика показала, что он вполне рабочий, так как позволяет распознать и детализировать ближайшие перспективы своего психического здоровья.
Что надо делать?
1. Принять удобное положение там, где вам никто не помешает. Провести стандартные медитативные упражнения с дыханием и мыслями, чтобы получить опять же стандартное состояние расслабления.

2. Вы должны мысленно вообразить, что вы стираете из окружающего мира фигуры тех людей, которые составляют ваше близкое окружение: друзей и родственников, включая мертвых.

3. Пройдясь ластиком по этим образам, вы продолжите тот же эксперимент в отношении тех, на кого вы хотели походить, кто оказал на вас воспитательное или цивилизационное воздействие. Это могут быть книжные или киношные герои, а также люди, с которыми вы лично не знакомы, но пересказы поступков которых произвели на вас впечатление. Вы так же методично сотрете их из своей памяти, чтобы таким образом вырезать самое себя из того, что составляет массив вашей индивидуальности.
4. Едва достигнув состояния духовной пустоты, вы тут же обнаружите сухой остаток. Как правило, это потребительская суета, основанная на стремлении удовлетворить свои «хотелки». Среди них вы и обнаружите «мутантов», извращенная природа которых будет вам очевидна. Это главное в эксперименте, потому что в обычном состоянии порочные мотивы, которые порой руководят нашим бытовым поведением, различить почти невозможно.
Свои наблюдения надо тут же выразить вслух, не выбирая выражений. Еще лучше запечатлеть свое открытие на бумаге. Семантическое закрепление – это профилактика грядущего расстройства, которое вполне может быть аннигилировано еще в зачатке. В любом случае полученная вами картина позволит оценить свое душевное состояние, что и является целью самодиагностики: предупрежден, значит вооружен!
Что такое таблица страхов и с чем ее едят?
1. Основное назначение таблицы состоит в уточнении задач, стоящих перед психотерапевтом. Обычно пациент формулирует проблему абстрактно. Ее описание в формате «ситуация – эмоции – мысли» дисциплинирует изложение, вводя его в русло задач психотерапии. Цель либо проявляется, либо становится очевидным ее отсутствие, если выясняется, что проблема в другом.
2. Больной человек может не понимать своих чувств, мыслей, ситуаций из-за которых он испытывает страдания. Таблица помогает дифференцировать переживания. Например, то, что воспринималось как тревожность, в процессе заполнения таблицы может оказаться стыдом, виной или разочарованием – в зависимости от ситуации.
3. Заполняя таблицу, пациент обнаруживает в своем поведении повторяющиеся элементы, которые позволяют увидеть систему: его мысли, эмоции и паттерны напрямую связаны с убеждениями и реакциями прошлого. Открывая для себя таким образом основу регрессивной гипнотерапии, он подсознательно настраивается на работу в этом направлении, что существенно повышает шансы на выздоровление.
4. Характерные для больного человека автоматизм мышления и черно-белый подход к оценкам ситуаций в процессе заполнения таблицы ослабевают, позволяя усилиться другой стороне: осознанности и самоконтролю. Это реальное начало психотерапии.
5. Таблица избавляет от эмпирического тумана, так как регламентирует самооценку больного в рациональном формате. Это важно, потому что пациент нередко ожидает от сеанса полного избавления от проблемы и расстраивается, когда этого не происходит. Таблица дает возможность различать даже минимальные улучшения (например, до сеанса пациент оценивал свой симптом на 80 %, а после – на 50 %), поэтому оптимизм в отношении продолжения лечения сохраняется.