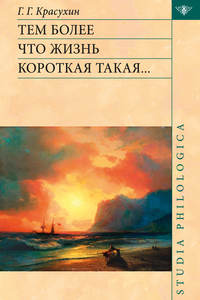Czytaj książkę: «Тем более что жизнь короткая такая…»
© Красухин Г. Г., 2016
© Языки славянской культуры, 2016
* * *
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
Пушкин
Часть первая
1
Мне четырнадцать лет…
Про ВХУТЕМАС дальше не будет. Я в нём не учился. Не мог ни по возрасту (уже в 1927-м он был переименован во ВХУТЕИН, который в 1930-м расформировали), ни по дарованию. Да и вообще я не цитирую, а констатирую факт.
Мне четырнадцать лет. Сквозь замутнённое сознание доносится: «Вот наворую, мы с тобой такие ликёры будем пить! Ты пил “Шартрез”?» Сашкино лицо качается и расплывается. Но если закрыть один глаз, оно останавливается. «Нет», – говорю. «Будешь, – уверенно говорит Сашка, – вот наворую…» И он подливает в мой и свой стакан меловой, сладкой и невероятно крепкой браги.
На брагу меня позвал сосед Витька. Ему девятнадцать. Брагу варит его бабушка. К Витьке пришли дружбаны – Колян и Сашка. Колян постарше. Ему за двадцать. Сашка с Витькой ровесники. А меня позвал Витька, как ещё одного своего дружбана. Ну, не такого, конечно, как они. Но я помогаю Витьке. Выполняю его поручения. И он это ценит.
Хотя поручения несложные. В основном они касаются Витькиных девок. У Витьки их много. Моя обязанность схватить трубку телефона и спросить, если просят позвать Витьку: «А кто его спрашивает?» И передать трубку Витьке только в том случае, если звонит та, которую он мне назвал. Остальным говорить, что он будет сегодня поздно и что я обязательно передам Витьке, что она ему звонила.
Витька рад такому пособничеству. У него есть постоянная любовница. Её зовут Таня, и она в этом году поступила в медицинский институт. Она и звонит чаще всего. И чаще всего мне приходится врать ей. Но она обязательно поздно вечером перезванивает. И будит уже заснувших соседей. Да и Витькину мать – тётю Катю – тоже.
Телефон висит в коридоре. А он у нас небольшой. В него выходят все три комнаты – тётиленина и дядимотина, тётикатина и Витькина, и наша. Дядя Мотя – трамвайный вожатый. Работает через день. Но когда работает, встаёт в шестом часу утра. Гремит чайником в кухне и будит наиболее чутких соседей. А те не выспались, потому что около двенадцати ночи их разбудила Таня. Витька-то схватил трубку и закрылся с ней в уборной. Но что толку? Его, может, и не слышно, но люди-то проснулись.
Дядя Мотя – нет. Когда он не работает, он пьёт. И засыпает рано. Но Ирка с матерью тётей Леной, моя матушка и, как я уже сказал, тётя Катя просыпаются почти всегда. И дядя Лёша, когда он остаётся ночевать с тётей Катей. Ну, дядя Лёша возмущается недолго. Выходит и нажимает на рычаг телефона. И гонит Витьку в комнату. Мать потом рассказывает, какие страшные ругательства шепчет Витьке дядя Лёша. И что она слышит, как бухает тахта в тётикатиной комнате и понимает, что это бухнулся Витька: то ли после того, как дядя Лёша его ударил, то ли после сильного его толчка.
– Ну, что ты звонишь по ночам? – орёт на следующий день в телефон Витька. – Ты соображаешь, что всех будишь?
– И знаешь, – говорит он в трубку, – всё! Пора завязывать! Не звони мне больше! И не ходи! Почему? А ты раскинь своими куриными мозгами, может, поймёшь!
– Ну да, – насмешливо говорила в кухне тётя Лена, слушая Витьку. – Так она его и бросила! Дожидайся!
Точно. Таня появляется в сопровождении Витьки через несколько дней. Они запираются в его комнате. Здесь всем звонившим Витьке девкам я говорю просто: «Его нет». А если спрашивают, не знаю ли я, когда он будет, отвечаю: «Не знаю».
Что они в нём находили? Вообще-то он был миловидным парнем. Слегка похожим на артиста Николая Рыбникова. Но держался с ними нагло. «Течёшь? – переспрашивал он ту, которой звонил. – Ну и иди тогда на…» И вешал трубку.
Послав эту, тут же звонил другой: «Ну что? – спрашивал. – Побалуемся? Есть настроение? Тогда жду, не опаздывай!»
– «Шартрез» – это для баб, – говорит Колян, – сладкий больно.
– А что мы сейчас пьём? – спрашивает Сашка. – Горькую?
– Сравнил, – усмехается Колян, – ты по крепости сравнивай. Здесь 60, не меньше, а в «Шартрезе» и 30 не будет.
– Да какие там 60! – возражает Сашка. – Вон, – он показывает на меня, – паренёк пьёт и ему хоть бы хны.
Да нет! Я уже не могу больше сдерживать тошноту, подступающую к горлу, и пулей выскакиваю в уборную. Она, слава Богу, не занята. Но блевать я начинаю по дороге.
– Зачем ты Геньку спаиваешь? – спрашивает тётя Лена Витьку, который выскочил и смотрит, как она помогает мне замывать следы. – Нашёл себе дружка, – усмехается тётя Лена, – от горшка два вершка!
– А ты не умеешь пить – не пей! – напускается она на меня.
– Привыкнет! – возглашает Витька. – Все так начинают.
– Как ты? – спрашивает он меня. – Выпьешь ещё? Или хочешь полежать? Пойдём, – зовёт он в свою комнату. – У меня полежи. Оклемаешься, пока твои не пришли.
Я забыл сказать, что пил я сейчас первый раз в жизни. Один раз, когда был поменьше, хлебнул из бутылки оставшегося от гостей портвейна «Хирса», и мне он не понравился. А отец, кроме «Хирсы», дома ничего не пил. То есть один он вообще ничего не пил. Покупал «Хирсу» для гостей. Мать не пила никакого вина. Наливала себе в рюмку компоту, чокаясь с гостями. Да и не так уж часто к нам приходили гости. Кажется, по разу в год на какой-нибудь праздник. Дядя Миша, старший брат отца, с женой. Или тётя Лиза, материнская тётка, у которой после ранней смерти её сестры – матери мамы – мама жила до замужества. Тётя Лиза тоже приходила не одна, но с мужем. Причём гости приходили не вместе, а порознь. Мне даже кажется, что дядя Миша никогда не видел тётю Лизу. Так что можно себе представить, как пили с отцом гости-мужчины – дядя Миша или тётилизин муж, если после их ухода в пол-литровой бутылке оставалось вина совсем не на донышке.
Другое дело, когда мы к кому-нибудь из них приходили в гости. Дядя Миша и его жена с дочкой жили в двух больших комнатах в общей квартире, которые дал им институт, где оба работали старшими научными сотрудниками (оба были кандидатами химических наук). У них была приходящая домработница Полина, которая пекла вкуснейшие маленькие мясные пирожки к бульону. И вино на столе стояло с маркой «Массандра», которое было дороже «Хирсы» чуть ли не в два раза. Я любил ходить по магазинам, разглядывать цены. «Хирса» стоила рубль 32 копейки, а «массандровские» вина начинались от 2 рублей 60. Ну, а у тёти Лизы на столе стояло несколько бутылок – «Шампанское», коньяки «Арарат» и «Самтрест», бутылка-две «Массандры», но ещё и «Напареули», и «Саперави», и непременно бутылка водки.
Тётя Лиза работала надомной машинисткой, а муж её был руководителем артели, которая заключала договоры с театрами на разного рода ремонтные работы. То есть был частником, которому завидовали и мать и отец: «Как сыр в масле катается!» Материнских родственников в Москве было больше отцовских. Да что сравнивать? У отца родни было больше, но в Москве жил один дядя Миша. А материнские родственники почти все жили в Москве. Тётя Лиза была очень гостеприимна. Так что за её столом сидело немало родни и её, и мужа.
Но, конечно, и дяде Мише, и тете Лизе и в голову не приходило налить мне вина.
– Ну что? – встречает меня Сашка. – Оклемался? А я-то думал, ты боец.
– Будет, – говорит Витька. – Вот полежит немного и будет.
Но лежу я совсем немного: снова чувствую позывы и бегу в уборную.
– Полегчало? – спрашивает Витька, когда я возвращаюсь. – Ну, полежи ещё.
Мать, воспитательница детского сада, работала сегодня во вторую смену. Ясно, что, если б работала в первую, меня б Витька не позвал. Приводила мать моего младшего брата Алика, который ходил в старшую группу детсада. А отец, начальник цеха завода пишущих машин, приходил с работы, усаживался на диван с газетой, которая довольно быстро выпадала у него из рук, – он засыпал. И просыпался с приходом матери.
Так что в любом случае лежать мне нужно было на Витькиной тахте. Ведь спал я у себя на том самом диване, где располагался отец. Они с матерью спали на полуторной кровати, которая стояла у противоположенной стены – через стол от меня. А чтобы положить Алика на раскладушку, стол задвигали к окну. И раскладушка почти запирала собой входную дверь. Места в комнате было мало. Да и откуда бы ему быть на 11 с половиной квадратных метров. Это у тёти Лены и тёти Кати комнаты были просторные: 20 метров у тёти Лены и 18,5 – у тёти Кати.
– Да брось ты лежать, – говорит мне Сашка. – Иди сюда, выпьем ещё.
Нет, пить я больше не могу. Но Сашкино лицо не качается и не расплывается. Меня тянет на улицу продышаться. Да и прийти я теперь должен только после матери с отцом. Иначе они узнают про пьянку у Витьки. А в тёте Лене я уверен: она им не скажет.
– Ну, давай пять, – говорит мне Сашка, когда я, одетый, снова вошёл в комнату попрощаться. Я жму руку всем троим. «Не дрейфь», – говорит мне Колян. «“Шатрез” за мной, – это Сашка. – Вот наворую», – сладко улыбается он.
Я выхожу на улицу. Стараюсь ступать твёрдо, хотя внутри меня трясёт. Иду на Даниловский сквер (Серпуховской вал). Сажусь на лавочку недалеко от выхода на 5-й Рощинский проезд. Но так, чтобы я видел идущих через сквер, а меня б не видели. С 5-го Рощинского сквер будет переходить мать с Аликом, возвращаясь из детского сада. Снова чувствую рвотные позывы. Ох, как это некстати! Сквер неширокий и довольно людный, спрятаться некуда. Прячу голову за спинку скамейки. И тут же меня выворачивает. Поднимаю голову с трудом. Глаза в слезах. Сквозь слёзы вижу, что кто-то стоит передо мной. Вытираю глаза: генерал. Их здесь много ходит по скверу, он одним своим концом выводит на Донской проезд, где находится Высшая военная академия имени Ворошилова.
– Тебе плохо? – спрашивает меня генерал.
– Отравился, – отвечаю.
– Чем тебе помочь? – спрашивает генерал. – Может, домой проводить? Ты далеко живёшь?
– Нет, – говорю, – рядом. Спасибо большое, я дойду.
Генерал ушёл, а мне безумно хочется спать. Зря я ушёл от Витьки. Нет, не зря. Тётя Катя пришла бы с работы, куда бы я делся? Тётя Катя работает в пивной палатке недалеко от проходной завода имени Сталина. «Золотое дно», – завидуют ей мои родители. Мать с тётей Катей едва здоровается. Из-за дяди Лёши, у которого есть семья.
Он и приходит к тёте Кате не каждый день, а когда дежурит в своём милицейском управлении – раза три-четыре в неделю. Он майор, а его управление проверяет пивные точки. Так что дядя Лёша и тётя Катя ещё и деловые партнёры.
До тёти Кати в её комнате жила тётя Нюра с дочкой Ниной. Тётя Нюра работала уборщицей в кремлёвском буфете, и у меня сохранилась фотокарточка, на обратной стороне которой маминой рукой написано: «Ёлка в Кремле». Это тётя Нюра каким-то образом раздобыла для меня билет на ёлку для детей кремлёвских сотрудников. Для обычных граждан Кремль при Сталине был закрыт. Хорошо помню, что впустили нас троих – тётю Нюру, Нину и меня, долго осматривая, изучая наши билеты и переговариваясь с кем-то по телефону. А потом мы шли по дорожке сквозь частокол солдат, и моё приподнятое праздничное настроение почти улетучилось, когда я смотрел на хмурые, посиневшие от мороза лица. Правда, на ёлке было весело, и подарок приятно оттягивал руку, когда мы шли назад. Но новое созерцание неулыбающихся, иззябших лиц опять поубавило радости и веселья. Помню ещё, что нам с Ниной хотелось подойти к мощным экспонатам, которые стояли на площади, – к Царь-пушке, к Царь-колоколу, но солдаты нас к ним не пропустили: сходить со специально отведённой для идущих на ёлку или с ёлки дорожки не полагалось.
А уже после смерти Сталина, совсем недавно, тётя Нюра обменяла свою комнату на тётикатину, которая была, как и наша, самой маленькой в трёхкомнатной квартире 5-го корпуса. Въехав к нам, тётя Катя оплатила тёте Нюре переезд и дала ещё какую-то сумму – компенсацию за потерю в метраже. Потеря была значительной – целых семь метров, но тётя Нюра очень нуждалась в деньгах, а у тёти Кати они имелись. В нашей комнате и в комнате тёти Лены висело на стене по одинаковому небольшому коврику: тётя Лена и мать в своё время вместе купили по одному такому в Даниловском универмаге. А тётя Катя положила огромный ковёр на пол, да другим покрыла двухспальную тахту, да над Витькиным диванчиком повесила большой тканый ковёр-репродукцию шишкинских медведей. Не говорю уже о дорогой мебели, предмете зависти двух соседок – тёти Лены и матери.
Тётя Катя объяснила всем соседям, почему дядя Лёша не может на ней жениться. Он коммунист, и развод помешает его карьере, парткомы не одобряют разводы членов партии. А подполковником, по подсчётам дяди Лёши, он должен стать очень скоро. Разведётся – и задержат его продвижение по службе. Но мать такое объяснение не приняла. Её возмущал, как она его называла, «этот разврат».
Оказывается, я всё-таки заснул. Просыпаюсь оттого, что меня сильно трясут за плечо. Открываю глаза – милиционер: «Чего спишь? Бездомный? Адрес?» Называю адрес. «Ну, так и иди домой. Спать на скверах не положено».
Иду домой. Темно. Надо пройти три больших двора. А там на каждый двор – по маленькой лампочке. Вот навстречу идут двое.
– Закурить не будет?
– Не курю, – отвечаю.
– А деньги есть?
– Нет, – говорю.
– А проверим.
И от сильного толчка в грудь я лечу на землю. Причём не просто падаю, но натыкаюсь на что-то и переворачиваюсь через голову. Но сзади слышу топот убегающих ног.
Мне протягивают руку, помогают подняться. Да это ж Колян.
– Удрал сволочь, – говорит он мне, – но я его запомнил. Найду – покойником будет.
Их было не двое, а трое, объясняют мне. Третий подкрался сзади и присел, через него я и перекатился. А двое – вот они. Сашка держит обоих за вывернутые руки.
– Ну что? – спрашивает Колян. – Сам с ними разберёшься или мне доверишь?
– Ну как мне с ними разбираться? – говорю.
– А вот так, – объясняет Колян. И сильно бьёт одного и другого в живот.
Сашка отпускает руки. Оба валятся. Сашка присаживается на корточки и быстро их обыскивает. Поднимается. В его руках две финки.
– С перьями ходим? – Колян берёт в руки одну. – Ну что, Генька, напишем у этого на лбу твоё имя, чтобы навсегда запомнил? Или уж у обоих, чтобы никому обидно не было?
– Не надо! – в ужасе вырывается у меня.
– Ну, не надо, так не надо, – соглашается Колян. – Жалостливый ты, – говорит он мне. – Они бы тебя не пожалели.
И он с силой бьёт ногой в бок одному из лежащих. Другого с такой же силой бьёт ногой Сашка.
– Полежите, – говорит им Колян, – отдохните. Мы сейчас вернёмся. Вот только проводим дружбана.
И они ведут меня ещё через один двор, к нашему подъезду.
– Рощинские? – спрашивает Сашка Коляна.
– Они, – отвечает Колян. – Кто же ещё втроем пойдёт на пацана? Ладно, скажу Буру, пусть он проведёт дознание.
Бур очень известен в наших домах. Похоже, что его боится даже наш участковый капитан дядя Вася. Я видел, как улыбался дядя Вася Буру, как бережно жал ему руку. И как тот небрежно с ним разговаривал.
Но Коляна Бур уважает. Они вместе сидели. Сколько отсидел Бур, я не знаю. А Колян отсидел, как говорил, свою пятёрку. Жил Бур в одном из Рощинских проездов. Поэтому я понял, о чём говорят Сашка с Коляном.
– Вы что, правда вернётесь? – спрашиваю я.
– Пойдём назад, – говорит Колян, – нам по пути. Но они уже уползли. Проверим, конечно. Добавим, если что!
– Ну, будь, – он жмёт мне руку. – Привыкай. Ты до этого пил когда-нибудь?
– Нет, – честно отвечаю я.
– Я так и понял, – сказал Колян. – Ну, ничего. Все когда-то начинают.
– Да привыкнет он, – улыбается мне Сашка. – Мы с ним ещё «Шартреза» попьём, – и тоже жмёт мне руку.
Я открываю нашу дверь, мышкой проскальзываю в тёмную комнату, стараясь не задеть Алькиной раскладушки. Хмель с меня давно соскочил, и я тихо раздеваюсь и ложусь под одеяло.
Так значит, это были рощинские! Повезло мне с моими дружбанами. Я-то знал, какими лютыми бывали рощинские. Помнил одного рощинского.
Понятно, почему его прозвали Мартышкой. Из-за фамилии. Но Мартынов и в самом деле был похож на обезьяну: оттопыренные уши, низкий лоб, вывернутые губы. Правда, для полного сходства не хватало волосяного покрова, но третьеклассников заставляли стричься наголо.
Мы звали его Мартышкой промежду себя. А в лицо – нет. Боялись не столько его, сколько его дружков, которые подстерегали тебя, вооружённые металлическими прутьями. Мартышка как раз и жил за Серпуховским валом в страшных Рощинских проездах (их было 6), пересечённых такими же страшными 3-мя Рощинскими улицами. Туда редко кто осмеливался ходить. Из стоящих рядом друг с другом деревянных трущоб несло затхлостью. Во дворах играли в карты взрослые и дети, которые, как взрослые, смолили папиросы (от нашего Мартышки несло табачным перегаром). А когда убирали карты и на столе появлялась водка, к компании присоединялись женщины, приносившие какую-нибудь нехитрую закуску: варёную картошку, солёные огурцы и визгливо подпевавшие потом пьяным своим собутыльникам.
Мартышка носил с собой не только перочинный ножик, которым исписывал парту. Однажды его поймали в раздевалке с бритвой. Он успел полоснуть ею несколько зимних пальто и затравленно молчал, зло сверкая глазами, когда его спрашивали, зачем он это сделал. Выносить сор из избы дирекция побоялась: инцидент как-то замяли. Но когда через некоторое время чьи-то пальто снова оказались исполосованными, пришлось вызывать милицию.
Однако в детскую колонию Мартышку упекли не за это.
Во дворах нашего Хавско-Шаболовского переулка (теперь он улица Лестева) стояло несколько одинаковых статуй – небольших гипсовых мальчиков Лениных. А подходя к Сиротскому переулку, я шёл в школу мимо ещё одного такого же. Смешно было глядеть на его кудри, неизменно вызывавшие в памяти очень известные тогда строчки:
Когда был Ленин маленький
С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
И в шубке меховой, —
а гипсовый был в летнем костюмчике и в ботинках.
Это меня и веселило: одев Ленина по-летнему, скульптор-копиист словно разоблачил этим поэта, не сообразившего надеть на Ленина зимнюю шапку. А с неприкрытой – пусть даже курчавой, а не лысой – головой по морозу не очень-то побегаешь!
Оказалось, что точно такой же, как у нас, гипсовый Ленин стоит и в жутком дворе Мартышкиного дома. Мартышка с друзьями, забавляясь, закидали статую снежками, а когда металлическими прутьями счищали с неё снег, подъехал милицейский наряд. Ребята разбежались. Милиционеры сумели отловить двух. Один из них был Мартышка. Отколотый нос маленького вождя стоил Мартышке много дороже, чем располосованные бритвой зимние пальто. В школе он больше не появился…
2
А школа наша была необычной. Называлась экспериментально-базовой Академии педагогических наук РСФСР. Директор её входил в президиум этой академии. А учителя, как правило, были её сотрудниками, научными работниками. В нашем подъезде на третьем этаже жила Наталья Петровна. Ирка, дочка тёти Лены, с ней не то чтобы дружила, но была у Натальи Петровны в гостях, когда та защитила диссертацию. Ирка работала секретарём у Василия Сталина в ВВС Московского военного округа, привыкла к развязным и нагловатым офицерам, поэтому её смешили чопорные гости Натальи Петровны. «Пьют крошечными рюмками, танцуют, не прижимаясь», – рассказывала она на кухне тёте Лене и матери. «А тебе – только бы прижаться к незнакомому мужику!» – ворчливо говорила тётя Лена. «А зачем тогда танцевать!» – удивлялась Ирка. Впрочем, я сейчас не о ней, а о Наталье Петровне.
Она пришла к нам в школу учительницей истории, когда я учился в 5-м классе. И очень насмешила ребят, когда, задав какой-то вопрос и предлагая на него ответить, приветливо сказала обо мне: «Геня скажет». Класс развеселился: «Геня!» В школе я был Геной, Генкой, но родители звали меня «Геней», так же звали меня соседи и во дворе.
А родители совсем не чудили, и имя «Геня» было вовсе не домашним моим именем, наподобие «Пека», «Таша», а самым что ни на есть настоящим. Меня назвали в честь рано (в 34 года) умершей бабушки – материнской матери, которую звали причудливо: двумя именами «Дуся-Геня». И сестра матери Соня тоже назвала свою дочку Женей в честь бабушки. Я ещё, узнав об этом, удивился: почему не Дусей-Евдокией?
Ирка страшно поразилась, узнав, что Наталья Петровна работает у нас учительницей: для чего тогда защищала диссертацию? Но, разговорившись с ней, узнала, что все сотрудники её академической лаборатории (или отдела) работают учителями не по совместительству. Некоторые из них авторы новых учебников, которые должны пройти апробацию (Ирка, конечно, такого слова не произнесла, это я уж от себя, теперешнего, для ясности). Если пройдут у нас (а это определит специальная комиссия академии), пойдут в массовое производство для всех школ. А некоторые сотрудники академии составляли программы по своим предметам и тоже должны были доказать, что их программы лучше прежних. То есть мы были как бы подопытными кроликами.
Я не знаю, как попал в нашу школу Мартышка, но я, отучившись в 1-м классе в 584-й школе, что была в конце Шаболовки напротив трамвайного депо имени Апакова, перешёл в нашу, 545-ю школу не просто как в ближнюю по месту жительства. Мне предложили сдать экзамены по арифметике и русскому языку.
Вообще на экзамены мне везло. Первый был анекдотичным. Я очень рано научился читать и немедленно записался в библиотеку: своих книг у нас в семье было мало. Тётя, сидевшая на выдаче, сначала не хотела меня записывать: заставляла читать газетный текст, книжный с разными размерами шрифтов и записала только после этой долгой проверки, которая нисколько меня не обидела, но, наоборот, настолько воодушевила оказанным доверием, что, когда через несколько лет у меня родился брат, я тут же опрометью бросился сообщать об этом библиотекарше. Помнил, что формуляр требовал сведений о родственниках. В библиотеке меня поздравили с братиком, но попросили прийти, когда я уже буду знать, как его назвали.
А второй экзамен был тот самый при переводе в 545-ю школу.
Обучение тогда было раздельным, и абсолютное большинство мальчишек, учившихся в ней, были детьми военных, в том числе и тех генералов, что занимались в Военной академии имени Ворошилова. Но не только их. В районе Городской и Тульской улиц находились закрытые научно-исследовательские институты – «почтовые ящики», как их тогда называли. Кажется, один из них разрабатывал и изготавливал химическое оружие. Но о нём я узнал позже, когда ездил от завода, на котором работал, на картошку. Вместе с нами ездили и «химики». Они и рассказывали, чем занимаются. А вот о чём я знал точно, так это о лаборатории, которая производила всякое шпионское оборудование. Дело в том, что туда получил направление мамин брат Аркадий, закончивший Пензенский политехнический институт с отличием. А потом его перевели в подмосковное Кучино. Не знаю, вместе ли со всей лабораторией или для организации подобной.
Так вот, таких, как я, принятых в школу по экзамену, было мало. Для обычных детей, живших недалеко от школы, но чьи родители не были связаны с армией или с разведкой, существовала небольшая квота. Вот по ней я и прошёл.
А уже потом сдавал экзамены после окончания каждого класса. Но это уже все сдавали. Их отменили как раз в тот год, когда я кончил школу.
Я вообще в начальной школе был круглым отличником. Мать была недовольна, если я приносил из школы четвёрку. Но четвёрки я получал редко.
Немецкий язык мы учили с 3-го класса, а не с 5-го, как в большинстве школ. Но, как я теперь понимаю, заинтересованности в том, чтобы мы действительно выучили язык, не было даже у научного сотрудника академии – нашего учителя Михал Михалыча. Уроки были такие же, как у моей жены и у нашего сына. Общались мы с Михал Михалычем на русском, переводили не очень сложный текст со словарём, составляли короткие простые предложения на немецком и читали фразы, написанные сложнейшим готическим шрифтом.
Ну и, не зная языка, заучивали его грамматику: перфект, плюсквамперфект, футурум цвай. Мне эти формы глаголов давались легко. Но толку от них не было: они никак не подвигали тебя в освоение языка.
Классы в нашей школе длиннее обычных. Так что за задней партой стоят два ряда стульев. Это на случай, если придёт комиссия из академии или приедут учителя с периферии, которых министерство отсылает к нам. Много позже я узнал, что урок, где присутствуют такие учителя, называется мастер-классом того, кто ведёт этот урок.
Михал Михалыч свой мастер-класс всегда начинал с меня или, как он возглашал, с алфавита. Память у меня была хорошая, и я мог секунд за двадцать отбарабанить весь немецкий алфавит: а, бэ, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка и так далее. На учителей это производило впечатление, и Михал Михалыч продолжал вызывать сильных учеников, в которых он был уверен. Тяжёлые отглагольные формы опять доставались мне в самом конце урока: я в них не путался, и урок заканчивался триумфально.
Тем не менее языком я даже не начинал владеть, хотя добросовестно запоминал все немецкие слова, которые задавал на дом Михал Михалыч. Потом-то я понял, что веди Михал Михалыч урок по-немецки, говори с нами только на нём, мы бы уже к концу начальной школы владели бы его навыками. Но Михал Михалыч тут не виноват. Так предписывало (я уже через несколько лет это постигнул) преподавать иностранный язык государство. Оно, выпускавшее радиоприёмники только с длинными и средними волнами, потому что на коротких волнах было легче ловить западные радиостанции на русском языке, оно, мощным рёвом заглушавшее какой-нибудь русскоязычный иностранный «голос», вовсе не было заинтересовано, чтобы его граждане владели иностранными языками, на которых читали бы и слушали бы совершенно недопустимые, с точки зрения государства, вещи. А недопустимо было всё противоречащее тому, что внушало своим гражданам государство.
Как я уже сказал, в 545-й школе я начал учиться со второго класса. Поэтому о делах первоклашек в ней не знаю. Но уже с него, то есть со второго класса, раз в неделю (обычно по средам) мы оставались после уроков на «классный час», который посвящался рассказу нашей учительницы Нины Павловны о том, как нам повезло жить в СССР, где трудящиеся быстро залечили раны, которые нанесла война, и обогнали все страны, добившись невиданных успехов во всём – в сельском хозяйстве, в производстве, в крепкой дружбе всех народов между собой и сплочённости их вокруг мудрого, родного и великого Сталина. Дружат ли так народы в других странах? Нам рассказывали о неграх, которых линчуют в Америке, объясняя попутно, что это такое. Рассказывали об африканских рабах, с которыми жестоко обращаются английские, французские, португальские и другие колонизаторы. Говорили, как завидуют нашим трудящимся в других странах, которым очень трудно поверить, что у нас нет безработных и бездомных. Но приезжают к нам профсоюзные делегации и убеждаются, что так оно и есть. А профсоюзные делегации, как правило, состоят из рабочих. Как жадно слушают их рассказы о чудесной стране, когда они возвращаются домой, где многие замерзают от холода и умирают от голода.
Надо повиниться: я и на классном уроке очень выделялся такими знаниями. Дело в том, что отец выписывал то «Правду», то «Известия», и я прочитывал газету от корки до корки, даже передовые статьи. Читал и был в курсе сегодняшней жизни в мире, как её преподносила своим согражданам власть.
Поэтому, когда Нина Павловна спрашивала, знает ли кто-нибудь о чём-то или может ли кто-нибудь дополнить её информацию, я неизменно тянул руку.
Иногда на классный час приходила парторг школы – учительница биологии. Она не выступала, сидела и слушала. Но в конце учебного года я попал в первую партию пионеров-второклассников, и страшно радовался своему пионерскому галстуку, который в классе носили очень немногие.
А ведь видел я, что происходит вокруг. Видел людей, побирающихся, просящих подаяние. Юрий Нагибин ещё при советской власти рассказал о том, как года через два-три после войны калеки исчезли из Москвы. Их убрали, свезли на Валаам и на Соловки: с глаз долой, из сердца вон! А я хорошо помню этих калек. Многие на дощечках с колесиками: стоял, естественно, только торс, ног не было, зато торс золотился и серебрился от фронтовых наград. Слепые, одноногие на костылях, безрукие, с изуродованными лицами – и неизменно все с медалями и орденами. Они располагались у Даниловского рынка, у входа в магазин на углу Шаболовки и нашего Хавско-Шаболовского переулка и с другой стороны этого магазина – у чёрного входа, где сразу после отмены карточек в определённые дни выстраивались огромные очереди за мукой. Позвякивающие своими наградами калеки-старики (а в семь-восемь лет стариками кажутся очень многие взрослые) сидели и стояли у Донской (действующей) церкви, располагались по периметру полукруглого здания «поросёнка» – как звали этот магазин на Тульской местные жители. Встречал я нищих и у входа на оба кладбища, куда мы часто ходили с ребятами, – Даниловское и Донское. Да и нередко звонили в дверь квартиры. Открывали и видели какого-нибудь одноногого парня на костыле (как он сумел забраться на пятый этаж без лифта?) или старушку с медалями и с протянутой рукой. Им выносили варёную картошку, давали хлеба, кусочки сахара. Не помню, чтобы кто-нибудь из соседей давал им деньги. Не говорю уже о матушке, которая нищих не любила и, открыв им дверь, тут же её захлопывала.
Всё я видел, но глупо и упрямо верил газетам, верил радио. Правда, и зашаталась моя вера довольно скоро.
На лето меня отправили в глухую деревню Смоленской области, где я жил в семье тёти – сестры отца. Вот где я насмотрелся на нищих, которые часто ходили по избам, рады были чему угодно – куску хлеба или кружке кваса. Подавали им неохотно: крестьяне (колхозники) голодали сами; с большой опаской открывали им двери. Открывали, как правило, с винтовкой или с пистолетом в руках: вокруг глухой лес. «Не волков, а людей надо бояться, когда идёшь в лес», – назидательно говорили мне соседи моих родственников.
Дядя Гриша, муж тётки, был человеком могучего телосложения и богатырской силы. Он никого не боялся, впускал нищего или нищенку в дом, кормил, иногда давал денег. Но нас, меня и его детей, моих двоюродных братьев, без оружия в лес не пускал. А были у него в доме и немецкие и советские револьверы из богатого арсенала, оставленного войной в смоленских лесах, и даже два дамских браунинга. Дядя Гриша стрелял навскидку и нас учил, но у меня получалось плохо. Метко стрелять я так и не выучился, хотя, отправляясь за грибами или за малиной, клал в карман, по настоянию взрослых, дамский браунинг.