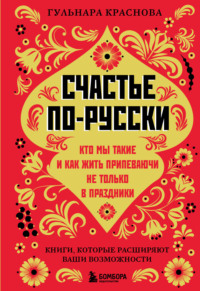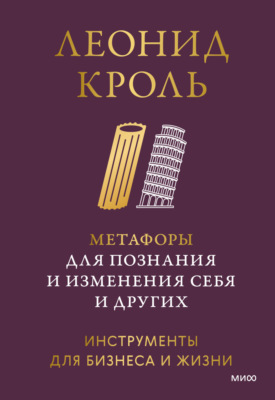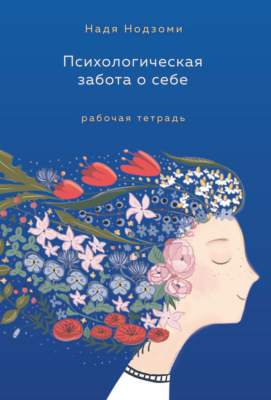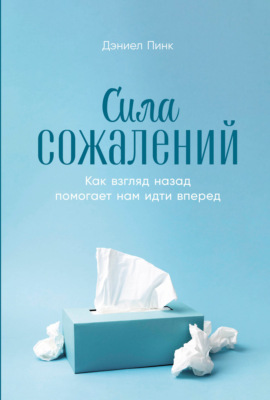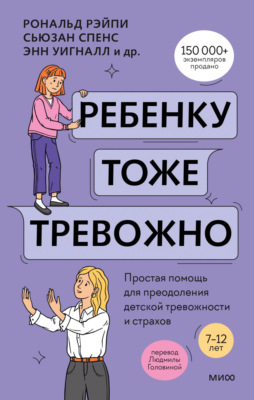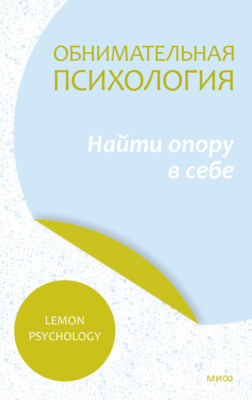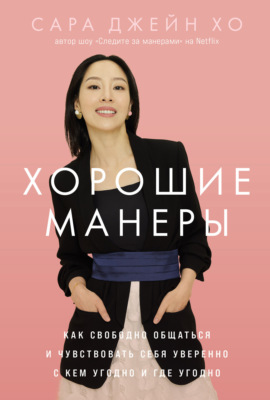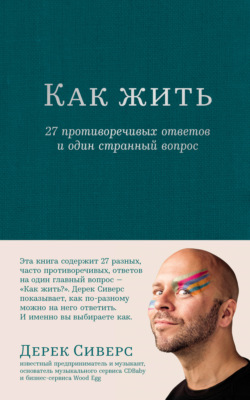Czytaj książkę: «Счастье по-русски. Кто мы такие и как жить припеваючи не только в праздники», strona 3
Не было бы счастья, да несчастье помогло…
В наших представлениях о счастье и несчастье, как ни парадоксально звучит, важнейшее значение имеет «позитивное» отношение к страданию. Под влиянием православия в традиционных ценностях русского народа страдание имеет «благостный, просветляющий, нравственно-очищающий и духовно-возвышающий смысл»22. Оно является не наказанием, а испытанием и благословением, ведущим к духовному росту и нравственному очищению человека.
Николай Бердяев – великий русский философ, ставший свидетелем и участником двух мировых войн, революции, отсидевший 4 раза в тюрьме, переживший ссылку в Сибирь и изгнание с родины, так описывает этот феномен: «Существо вполне довольное и счастливое в этом мире, не чувствительное к злу и страданию и не испытывающее страдания, совершенно бестрагическое, не было бы уже духовным существом и не было бы человеком… Реальная победа над несчастьем и страданием привела бы к исчезновению духовности как мистификации сознания. Духовность есть болезненный нарост, порожденный страданием»23.
Писатель Ф. М. Достоевский идет еще дальше. В своем «Дневнике писателя» за 1873 год он делает такую запись: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах»24.
Надо сказать, что эту потребность русские писатели все без исключения чувствовали и удовлетворяли. «Наше искусство и русская литература – это про страдание, – говорил мне в интервью писатель и автор программы “Образцовое чтение” Константин Образцов 25. – Возьмем, например, рассказ И. Тургенева: “Первая любовь. Ася”. А что, если бы Ася и Н. Н. поженились, завели детей? Это был бы полный провал, мы бы такое не стали читать, потому что нам нужно, чтоб “на разрыв”. Или “Элегию” у А. С. Пушкина: “Над вымыслом слезами обольюсь”. Вот сидит человек и рыдает. Спросишь у него: “Что-то случилось?”, а он ответит: “Все в порядке. Я над «вымыслом слезами обливаюсь»”. Если мы примем за максимум, а это абсолютно так, что каждый человек хочет быть счастливым, то окажется, что у некоторых такое счастье, что с виду оно очень похоже на несчастье».
Именно с культом страдания связано, по мнению русского философа, культуролога и литературоведа М. М. Бахтина, укоренившееся в сознании русского народа и ставшее фундаментальным отличием русской духовности – «слезное видение мира». Российский философ И. А. Джидарьян считает, что «способность мгновенно настроиться на плач, на рыдания вообще служила на Руси внешней приметой моральности человека, его благочестии и т. д. Существует даже изречение: «Если русский не плачет, то Бог его забыл»26.
Эта «потребность в страдании» и «слезное видение мира», доставшиеся нам по наследству от предков, вынуждают нас:
• бесконечно скролить ленту негативных новостей и событий, а потом искать смысл в происходящих несчастиях;
• постоянно ждать беды/черных лебедей и откладывать счастье на светлое будущее;
• рассказывать знакомым и незнакомым людям о перенесенных нами страданиях, в то время как хорошими новостями мы даже с близкими не всегда готовы делиться.
Можно еще долго перечислять. Но, так или иначе, приходится признать, что «потребность в страдании» до сих пор присутствует в той или иной степени в нашем сознании. Она сформировывалась за тысячелетнюю историю русского народа, в которой было, по правде говоря, не так много поводов для радости.
Можно ли прожить жизнь без страданий? Нет.
Как наши предки, и сейчас мы не можем выбирать обстоятельства – всегда будут хорошие и плохие времена. Но можно хотя бы самим себе не придумывать дополнительные поводы для страданий и не искать в них удовольствия.
Не знаю, можно ли избавиться от этой «коренной духовной потребности», но возможно, если относиться к ней осознанно, сила ее ослабеет.
Счастье любит тишину
С вами такое бывает: случается что-то хорошее, хочешь поделиться радостью со всем миром, но боишься – вдруг сглазят. Но потом все-таки рассказываешь, и хорошее исчезает. В расстроенных чувствах думаешь – сглазили, надо было держать язык за зубами и лучше плевать через плечо. Перед суеверием бессильны интеллект и образование, говорят социальные психологи 27. Соглашусь с этим и признаюсь, что плюю через плечо в особенно важные для меня моменты. Например, когда мой редактор говорит, что моя книга понравится читателю. Тьфу-тьфу-тьфу!
Признание, конечно, облегчает душу, но не избавляет от суеверия. И этому есть причины, которые кроются в нашем культурном коде счастья, как заметил Александр Потебня (1835–1891) – создатель философии русского языкознания. Он писал в своей книге «Слово и миф», что в представлениях русского народа «на свете есть определенное количество счастья и несчастья, болезни, добра и зла, и нет избытка ни в чем. Если один заболевает, то, значит, к нему перешла болезнь, оставивши или уморивши другого»28.
Другими словами, наши отношения со счастьем основаны на ошибочной установке, что изначально существует определенный объем счастья, который не увеличивается и не уменьшается, но может «убывать» у одного человека и «прибывать» к другому. Каждому достается свой «кусочек счастья», и чем больше у одного, тем меньше у другого. Отсюда страх, что кто-то позавидует размеру твоей порции, посмотрит недобрым взглядом, и она уменьшится.
Свой вклад внесло здесь и наше советское детство. Социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук замечает: «Там, в детстве, многим из нас ничего не давалось бесплатно: ни любовь, ни похвала. Все нужно было заслужить. И эта привычка не ждать многого и очень стараться, тайно надеясь, что повезет больше, чем другим, она у нас уже в крови»29. Совковый образ счастья – это торт, который надо делить на всех. И чем больше порция у одного, тем меньше у других. Страны, в которой мы родились, больше нет. Но установки остались и стали частью нас. Мы так уверовали в них, что в какой-то момент перестали замечать хорошее в нашей жизни, стали сдержанны в проявлениях радости и перестали делиться позитивом.
А если предположить, что счастья в мире в избытке и распространяется оно как вирус? Именно это решили доказать ученые и в течение 20 лет изучали этот вопрос 30. Они обнаружили, что:
• счастливые родственники и члены семьи повышают шансы на счастье на 15 %;
• счастливые друзья увеличивают возможность благополучия на 10 %;
• знакомые с позитивным настроем способствуют повышению счастья на 6 %.
Более того, «вирус счастья» имеет определенный радиус распространения – около 1,6 км. Это означает, что люди, живущие в непосредственной близости от тех, кто испытывает счастье, с большей вероятностью будут испытывать его сами.
Ученые вывели правило трех рубежей влияния, которое определяет, насколько сильно распространяется счастье в зависимости от расстояния:
→ Первый рубеж (до 1,6 км): Счастье близлежащих друзей и семьи имеет сильное влияние, повышая шансы на заражение «вирусом счастья» на 40 %.
→ Второй рубеж (до 3 км): Влияние счастливых людей уменьшается, но все же остается значительным, увеличивая шансы на счастье до 20 %.
→ Третий рубеж (более 4 км): Эффект счастья ослабевает, но все же присутствует, повышая шансы на позитивные эмоции на 10 %.
Каков механизм распространения «вируса счастья»?
→ Социальное влияние. Позитивные эмоции других людей могут воздействовать на наши собственные эмоции, создавая атмосферу радости и хорошего настроения.
→ Эмоциональное заражение. Счастье можно буквально передать другим людям через улыбки, смех и язык тела.
→ Моделирование поведения. Наблюдение за счастливыми людьми может научить нас позитивным копинг-механизмам и способам переживания радости.
С учетом этого увеличить уровень счастья в своем окружении и заразить им других можно так: окружая себя счастливыми людьми; проводя больше времени с теми, кто нас радует; делясь хорошими новостями и своим хорошим настроением с другими. В результате счастья будет больше у вас и во всем мире.
Счастье – это немного стыдно
Вы уже, наверное, заметили, как я люблю русские пословицы и поговорки. Владимир Даль – тот самый создатель Словаря русского языка, называл их устными приговорами народа: «Я могу за один раз вникнуть плотским и духовным глазом своим во все, что народ сказал о любом предмете мирского и семейного быта; и если предмет близок этому быту, если входит в насущную его жизнь, то народ – в этом можете быть уверены – разглядел и обсудил его кругом и со всех сторон, составил об этом устные приговоры свои, пустил их в ход и решения своего не изменит, покуда разве не изменятся обстоятельства. А чего нет в приговорах этих, то и в насущности до народа не доходило, не заботило, не радовало и не печалило его»31.
Я думаю, что в этих приговорах как нельзя лучше фиксируется наш культурный код. Русские пословицы о счастье мне дали, кажется, даже больше знаний и понимания, чем психологические исследования.
Хочу рассказать, как на протяжении месяца я изучала выражение «наглость – второе счастье». В словарях русского языка о его происхождении я ничего не нашла. Зато обнаружила разнообразные мнения на этот счет у авторов интернет-ресурсов и пользователей форумов.
Кто-то считает 32, что выражение появилось в СССР, в период всеобщего дефицита, когда стоять в очередях и подчиняться правилам оказывалось менее эффективной стратегией, чем находить нужные связи и просить за себя. Другие утверждают 33, что фраза вошла в употребление на Руси в XVIII в., а в литературе его первое упоминание относится к началу XX в., но ссылок на источники авторы не дают, а мне их не удалось найти.
Тогда я обратилась к сборникам пословиц русского народа Владимира Даля 34 и Аполлона Коринфского 35. Мои поиски «второго счастья» так и не увенчались успехом – никаких упоминаний про наглость и счастье. Но я не потратила время зря, потому что нашла «первое счастье»: «Первое счастье – коли стыда в глазах нет». Я была озадачена: бесстыдство и наглость – причины для счастья по-русски, так, что ли?! Это что вообще значит?!
С этим вопросом я погрузилась в изучение проблемы «человека стыдящегося» в науке. До этого я не могла предположить, что феномену стыда и бесстыдства посвящено так много исследований психологов, социологов, историков, антропологов, филологов и философов. Различные науки изучают эти явления с точки зрения возраста/гендера/статуса; поводов и условий; типологии (телесной, психологической, социальной); культурных разновидностей; измерения стыда в разных странах и др. Меня, прежде всего, интересовал вопрос о связи между стыдом и счастьем в русской культуре, и вот что я обнаружила.
Исследователь русского фольклора А. А. Коринфский пишет: «Отсутствие же стыда-совести не только не представляется русскому народу хорошим делом, но и прямо-таки служит в его глазах явным свидетельством того, что перед ним – заведомо худой человек, в общении с которым надо „держать ухо востро“, а не лишнее и запастись „камнем за пазухой“»36. Народная мудрость с сожалением отмечает, что бесстыжим людям на Руси лучше живется: «первый дар на роду, коли нет в глазах стыду»; «убей бог стыд, все пойдет хорошо»; «отыми бог стыд, так будешь сыт»; «стыдливому удачи не видать». В целом стыду в разных сферах жизни в русских пословицах уделяется большое внимание. И этому есть объяснение.
Дело в том, что коллективистские культуры являются культурами стыда 37. В таких обществах стыд – один из основных социальных регуляторов контроля поведения человека 38, которому совестно действовать иначе, нежели принято в том или ином коллективе 39. Стыд возникает в случае нарушения нормы 40, о существовании которой человек знает.
В мифологии «русского» счастья стыд является одной из основных идей: «Счастье – это всегда немного стыдно»41. По сути, это означает, что быть счастливым – ненормально.
Как заметил великий Фрейд, человек рождается свободным от стыда.
Другими словами, у ребенка нет никаких представлений о стыде. Оно появляется по мере взросления.
Практики пристыживания детей в семье – первая ступень социализации стыда 42. В дальнейшем индивидуальные формы, способы и поводы проявления стыда определяют социальные и культурные факторы, выражающиеся в нормах. Но нормы, как известно, меняются – и меняют их люди. И я очень хочу верить, что счастье станет нормой и над нами взойдет звезда пленительного счастья…43
Darmowy fragment się skończył.