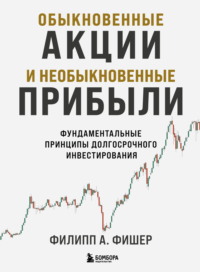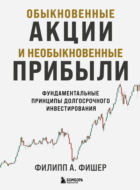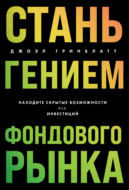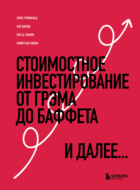Czytaj książkę: «Обыкновенные акции и необыкновенные прибыли. Фундаментальные принципы долгосрочного инвестирования», strona 5
Введение
Публикация новой книги про инвестиции может потребовать некоторого пояснения со стороны автора. Чтобы дать адекватное объяснение, зачем я вздумал писать еще одну книгу на эту тему для публики, занимающейся инвестированием, мне придется привести аргументы личного характера.
Проучившись год в только открывшейся Высшей школе делового администрирования Стэнфордского университета, в мае 1928 г. я попал в мир бизнеса. Я поступил на службу в отдел статистики (который спустя полтора года возглавил) в один из основных филиалов нынешнего Crocker-Anglo National Bank в Сан-Франциско. Говоря современным языком, я работал специалистом по ценным бумагам.
Здесь я занял место в первом ряду, откуда можно было наблюдать за невероятной финансовой оргией, которая достигла пика осенью 1929 г., а также за последовавшим за ней периодом бедствия. Наблюдения убедили меня, что на Западном побережье есть потрясающая возможность открыть специализированную фирму по инвестиционному консультированию, которая стала бы прямой противоположностью устаревшего нелестного описания некоторых фондовых брокеров – людей, которые всему знают цену, но не знают ценности.
1 марта 1931 г. я основал компанию Fisher & Co, которая в то время была предприятием по инвестиционному консультированию, обслуживающим широкую публику, но его интересы в основном сосредоточились вокруг нескольких растущих компаний. Эта деятельность имела успех. А затем началась Вторая мировая война.
На протяжении трех с половиной лет, покуда я был занят бумажной работой для Воздушного корпуса Армии США, я проводил часть свободного времени за анализом успешных и, что особенно важно, безуспешных действий в области инвестирования, которые предпринимал я и другие инвесторы в течение предыдущих десяти лет. Я начал замечать, как из этого анализа формируются определенные инвестиционные принципы, которые отличались от тех, что финансовое сообщество принимало за бесспорную истину.
Когда я вернулся к гражданской жизни, решил воплотить эти принципы на практике в деловой атмосфере, как можно реже отвлекаясь на сторонние вопросы. Вместо обслуживания широкой аудитории компания Fisher & Co в течение 11 лет не брала более дюжины клиентов одновременно. Большинство этих клиентов оставались неизменными в течение всего этого периода. Вместо того чтобы концентрироваться на росте капитала, вся деятельность Fisher & Co была сосредоточена на этой единственной задаче.
Я понимаю, что эти 11 лет были периодом повышения цен на акции, во время которого кто угодно, кто занимался этой деятельностью, мог заработать крупную прибыль. Тем не менее, учитывая, насколько эти фонды стабильно опережали общепризнанные индексы рынка в целом, я понял, что эти принципы оправдали себя в послевоенный период даже в большей степени, чем в довоенное десятилетие, когда я применял их лишь отчасти. Что еще более важно, они принесли не меньшую пользу в те годы, когда рынок был статичен или находился в состоянии падения, чем в период резкого подъема.
В процессе изучения инвестиционной деятельности – как моей собственной, так и других инвесторов – я выявил два значительных фактора, которые повлияли на написание этой книги. Первый, который я уже несколько раз упоминал в других местах, – это необходимость терпения ради извлечения крупной прибыли. Другими словами, часто легче сказать, что случится с ценой на акции, чем спрогнозировать, сколько времени для этого потребуется. Второй фактор – это присущий фондовому рынку обманчивый характер. Если все вокруг поступают определенным образом и вы испытываете жгучее желание поступить так же, значит, чаще всего этого не следует делать.
По этим причинам за долгие годы я много раз подробнейшим образом объяснял владельцам фондов, которыми управляю, принципы, которыми руководствовался при принятии того или иного решения. Только так они бы в достаточной степени поняли, почему я приобрел совершенно неизвестные им ценные бумаги, чтобы у них не возникло желания избавиться от этих бумаг, прежде чем пройдет достаточно времени, чтобы приобретение оправдало себя на биржевых котировках.
Постепенно я решил собрать эти инвестиционные принципы в печатном виде, чтобы ссылаться на этот сборник. Это желание вылилось в первую попытку организации этой книги. Затем я стал думать о многих людях – в основном владельцах гораздо меньших фондов, чем те, которые обслуживает моя фирма, – они обращались ко мне и спрашивали, как им, мелким инвесторам, выйти на правильный путь.
Я стал думать о сложностях, с которыми сталкивается эта армия мелких инвесторов. Они непреднамеренно нахватались всевозможных идей и понятий об инвестировании, которые в течение нескольких лет окажутся чрезмерно дорогими, возможно, потому что эти инвесторы никогда не сталкивались с более фундаментальными концепциями.
И наконец, я вспомнил многочисленные обсуждения, которые вел с еще одной группой, также живо заинтересованной в этих вопросах, хоть и с другой точки зрения. Это руководители корпораций, финансовые директора и казначеи открытых акционерных компаний, многие из которых проявляют интерес к изучению этих вопросов.
Тогда я сделал вывод, что назрела необходимость в книге такого рода. Я решил написать ее в неофициальном тоне и постараюсь обращаться к вам, мой читатель, от первого лица. Я стану использовать тот же язык, те же примеры и аналогии, что использовал, представляя те же концепции владельцам фондов, которыми управляю. Надеюсь, моя откровенность и прямота никого не обидят. В особенности надеюсь, что ценность идей, которые представлю здесь, перевесят мои недостатки как писателя.
Филип А. Фишер
Сан-Матео, Калифорния
Глава 1
Уроки прошлого
У вас есть некоторая сумма денег на счету в банке. Вы решили, что хотите приобрести обыкновенные акции. Возможно, вы приняли это решение, потому что желаете, чтобы эти деньги принесли вам больший доход, чем при ином их вложении. Возможно, вы решили, что хотите расти вместе с Америкой. Возможно, вы припоминаете времена, когда Генри Форд основал Ford Motor Company, а Эндрю Меллон строил Aluminum Company of America, и подумываете, а не получится ли и у вас найти молодое предприятие, которое сможет заложить фундамент для вашего будущего огромного состояния. Предположу, что вы полны скорее опасений, чем надежд, и просто хотите создать кубышку на черный день. Но, слыша все больше и больше разговоров об инфляции, хотите обезопасить ваши сбережения от дальнейшего снижения покупательной способности доллара.
Вероятно, ваши истинные мотивы сочетают несколько факторов и на них повлиял, например, сосед, подзаработавший деньжат на фондовом рынке, или листовка в почтовом ящике, где рассказывается, почему вложиться в Midwestern Pumpernickel – это очень выгодная сделка. Однако за всем этим лежит один-единственный основной мотив. По тем или иным причинам, тем или иным способом обыкновенные акции покупают, чтобы заработать.
Таким образом, прежде чем даже думать о покупке обыкновенных акций, логичный первый шаг – изучить, как зарабатывали деньги раньше. Даже беглого взгляда на историю американского фондового рынка хватит, чтобы понять: для извлечения значительной прибыли используют два крайне различных метода.
В XIX и начале XX века люди сколотили ряд крупных и большое количество мелких состояний в основном благодаря ставкам на экономический цикл. В период, когда нестабильная банковская система вызывала повторяющиеся подъемы и спады, покупка акций в тяжелые времена и их продажа в периоды процветания приносили значительную ценность. Особенно это касалось людей с надежными связями в финансовых кругах, потому что они могли заранее получить информацию, когда банковская система вновь пойдет на спад.
Но, возможно, наиболее значительный для понимания факт заключается вот в чем: даже в ту эру фондового рынка, которая закончилась с пришествием Федеральной резервной системы в 1913 г. и ушла в историю с принятием законов о ценных бумагах и биржах в начале работы администрации Рузвельта, все, кто пользовался вторым методом, зарабатывали гораздо больше денег при гораздо меньших рисках. Каким образом? Даже в те давние времена найти по-настоящему выдающуюся компанию и оставаться с ней, невзирая на все колебания цикличного рынка, оказалось прибыльнее для гораздо большего количества людей, чем захватывающая практика попыток купить подешевле и продать подороже.
Если это утверждение кажется вам удивительным, его дальнейшее расширение поразит вас еще больше. Оно также предоставит вам ключ к первой двери, за которой вас ждет путь к успешному инвестированию. На различных фондовых биржах страны сейчас торгуются акции не нескольких штук, а нескольких десятков компаний, в которые еще лет этак 25, а то и 50 назад можно было вложить, скажем, 10 000 долларов, а сейчас за них получить 250 000 долларов, а то и в несколько раз больше. Другими словами, в течение жизни у большинства инвесторов и их родителей было множество возможностей заложить фундамент для значительного состояния – как своего, так и своих детей. Эти возможности не подразумевали покупку акций в определенный день, когда разразилась страшная паника и рынок оказался на самом дне. Акции этих компаний были доступны год за годом по ценам, которые позволяли извлечь такую прибыль. Требовалось лишь уметь отличить редкие компании, предоставляющие такие прекрасные инвестиционные возможности, от тех многих, будущее которых варьируется от умеренного успеха до полного провала.
Существуют ли на сегодняшний день возможности для инвестиций, которые спустя годы принесут соответствующую прибыль? Ответ на этот вопрос требует серьезного внимания. Если он окажется утвердительным, дорога к настоящим доходам путем вложений в обыкновенные акции становится более ясной. К счастью, существуют убедительные свидетельства, что нынешние возможности не хуже тех, что представлялись в первой четверти XX века, и даже лучше.
Первая причина – перемены, произошедшие за этот период в фундаментальной концепции корпоративного руководства, и соответствующие изменения в управлении корпоративными делами.
В предыдущем поколении главы крупных компаний обычно были членами семьи владельца. Они считали корпорацию личной собственностью, а должности передавались по наследству. Проблема преемственности руководства решалась обучением молодого человека – сына или племянника, – чтобы он занял место того, кто в силу возраста уже не может выполнять свою работу. Интересы же внешних акционеров практически игнорировались. Обеспечение лучшей возможной кандидатуры для защиты вложений акционеров редко приходило на ум руководству. В тот век автократического личного господства стареющие руководители сопротивлялись нововведениям и усовершенствованиям, отказывались даже слушать предложения или критику. Это был совсем другой бизнес.
Сейчас компании постоянно конкурируют в поисках способов усовершенствования своей деятельности. Нынешние руководители корпораций обычно занимаются постоянным самоанализом и бесконечным поиском улучшений, часто даже обращаясь за рекомендациями к всевозможным экспертам и консультантам за пределами своих компаний.
Раньше существовала серьезная опасность, что наиболее привлекательная корпорация перестанет опережать конкурентов в своей сфере, а если и нет, то руководители заграбастают себе всю прибыль. На сегодня такие инвестиционные риски, хоть и не окончательно канули в Лету, все равно в меньшей степени представляют опасность для осторожного инвестора.
Следует обратить внимание на один аспект изменений, которые претерпело руководство корпораций: развитие исследовательских и инженерных лабораторий. Этот феномен вряд ли принес бы выгоду акционерам, если бы корпоративное руководство не изучало параллельную технологию, где исследования используются как инструмент добычи золотого урожая для прибыли инвесторов. Даже сегодня многие инвесторы, кажется, не до конца понимают, насколько продвинулись компании в этом смысле, насколько далеко они еще зайдут и какое влияние это окажет на базовую инвестиционную политику.
Вообще-то, даже к концу 1920-х гг. лишь с полдюжины промышленных корпораций содержали значимые исследовательские организации. Хотя по сегодняшним меркам эти лаборатории считались бы мелкими. Промышленные исследования начали по-настоящему развиваться лишь после того, как страх перед Адольфом Гитлером ускорил эту деятельность в военных целях.
С тех пор ее развитие не прекращалось. Исследование, проведенное весной 1956 г. и опубликованное в журнале Business Week и ряде деловых изданий McGraw-Hill, продемонстрировало: в 1953 г. расходы частных корпораций на исследования и разработки составили около 3,7 миллиарда долларов. К 1956 г. они возросли до 5,5 миллиарда долларов, и нынешнее долгосрочное планирование требует, чтобы эти темпы не сбавлялись. Уже к 1959 г. этот показатель должен составить не меньше 6,3 миллиарда долларов. Не менее поразителен вывод исследования: к 1959 г., т. е. всего через три года, ожидается, что в нескольких ведущих сферах экономики около 15–20% от общего объема продаж составит продукция, которой еще не существовало.
Тот же источник провел аналогичное исследование в 1957 г. Если результаты, представленные в 1956 г., поражали своей значимостью, то опубликованные год спустя можно назвать поистине взрывными. Расходы на исследования взлетели на 20% по сравнению с показателями прошлого года и составили 7,3 миллиарда долларов! Таким образом, за четыре года рост составил почти 100%. Это значит, что рост за 12 месяцев составил на миллиард долларов больше, чем прогноз на 36 месяцев, сделанный всего год назад. Тем временем, по оценке экспертов, ожидаемые расходы на исследования в 1960 г. должны составить 9 миллиардов долларов! Кроме того, во всех промышленных отраслях, а не только в тех, что были изучены в этом исследовании, ожидалось, что 10% от продаж в 1960 г. составят товары, которых не было в продаже всего тремя годами ранее. В некоторых сферах эта доля – из которой были исключены товары, представляющие собой лишь новую модель или внешние изменения, – была в несколько раз больше.
Влияние этих факторов на инвестирование невозможно переоценить. Затраты на такие исследования становятся так высоки, что корпорации, которым не удается разумно ими распорядиться с коммерческой точки зрения, могут пошатнуться под непосильной ношей операционных расходов. Кроме того, не существует универсального и понятного мерила, с помощью которого руководство или инвесторы могли бы оценить прибыльность исследований.
Даже от самого талантливого профессионального игрока в бейсбол нельзя ожидать, что он попадет по мячу чаще трех раз из всех, когда взялся за биту. Точно так же большинство исследовательских проектов в силу одного лишь закона средних чисел обречено на бесприбыльность.
По чистой случайности огромное количество таких бесприбыльных проектов могут произойти один за другим за небольшой промежуток времени даже в самой успешной коммерческой лаборатории. А с начала проекта до момента, когда он значимо положительно повлияет на прибыль корпорации, может с легкостью пройти 7–11 лет. Таким образом, даже самые прибыльные исследовательские проекты просто-напросто вытягивают из компании финансы, покуда не начнут приносить ей прибыль.
Но если издержки на неудачно организованные исследования и высоки, и трудноопределимы, то издержки чрезмерно малого количества исследований могут оказаться еще выше.
В течение следующих нескольких лет внедрение многочисленных материалов и новых видов машинного оборудования будет стабильно сужать рынок для тысяч компаний, а то и целых отраслей, которые не поспевают в ногу со временем. Так что впереди крупные изменения в самых элементарных сферах ведения бизнеса, какие, например, повлекут за собой использование компьютеров для ведения бухгалтерии и использование иррадиации в промышленной обработке. Тем не менее другие компании будут чутки к новым тенденциям и смогут маневрировать, чтобы извлекать из своей осведомленности гигантские прибыли. Руководство некоторых таких компаний, возможно, продолжит поддерживать высочайшие стандарты эффективности в повседневных операциях. При том условии, что оно будет руководствоваться здравым смыслом при продвижении в своей области в вопросах, которые повлияют на будущее всей компании в долгосрочной перспективе. Их везучие акционеры, вполне возможно, унаследуют землю вместо библейских «кротких».
Но влияние изменившихся взглядов на корпоративное управление и рост исследований – тоже не все. Существует третий фактор, который также может дать нынешним инвесторам больше возможностей, чем в прошлом. Возможно, вам покажется, что обсуждать влияние экономического цикла на инвестиционную политику было бы уместнее далее в этой книге – в разделах, где говорится, когда покупать и продавать акции. Но сейчас необходимо обсудить один сегмент этого вопроса: преимущество определенных видов обыкновенных акций в результате изменений базовой политики, которые вносило наше федеральное правительство в основном с 1932 г.
И до, и после этой даты обе партии старались присвоить себе заслуги за любые положительные изменения в экономике, которые происходили, когда те находились у власти, вне зависимости от их реального вклада и роли. Если же в экономике происходил серьезный спад, широкая общественность и оппозиция обвиняли в этом власти. Однако до 1932 г. у руководства обеих партий возник бы серьезный вопрос, есть ли моральное или политическое оправдание для создания огромного дефицита бюджета ради поддержки слабых сегментов бизнеса. Борьбе с безработицей методами более затратными, чем выдача пособий и открытие бесплатных столовых, не стали бы уделять серьезного внимания вне зависимости от партии, которая находилась у власти.
После 1932 г. все стало с точностью до наоборот. Демократов, возможно, менее, чем республиканцев, волновал баланс федерального бюджета – а может, и нет. Однако, начиная с президента Эйзенхауэра (за исключением, возможно, министра финансов Хамфри), руководство республиканской партии снова и снова повторяло: если состояние бизнеса пойдет под откос, они без колебаний снизят налоги и пойдут на любые другие создающие дефицит меры, чтобы восстановить процветание бизнеса и снижение безработицы. Этот подход кардинально отличается от доктрин, преобладавших в политике до Великой депрессии.
Даже если эти политические изменения и не стали общепринятыми, произошли некоторые другие изменения, которые наверняка приведут к тому же результату, хоть, возможно, и не так быстро.
Подоходный налог был введен при администрации Уилсона. Он незначительно повлиял на экономику до 1930-х гг.
В более ранние годы источником большей части федеральных доходов были таможенные пошлины, акцизные сборы и т. п. Их уровень умеренно колебался в соответствии с уровнем благосостояния, но в целом отличался стабильностью. В наши дни около 80% доходов федерального бюджета поступает из налогов на доходы юридических и физических лиц. Это значит, что любой резкий спад общего состояния бизнеса повлечет соответствующее снижение доходов федерального бюджета.
Тем временем были приняты такие законодательные механизмы, как поддержка цен на фермерскую продукцию и пособия по безработице. Как раз в то время, когда спад предпринимательской деятельности в значительной степени мог бы снизить доходы федерального бюджета, расходы в этих сферах, ставшие обязательными в соответствии с законодательством, могли вызвать резкое увеличение государственных расходов. Добавьте еще и решительное намерение развернуть любую нежелательную тенденцию в предпринимательской сфере за счет снижения налогов, строительства новых инфраструктурных проектов и предоставления займов различным бизнес-группам, находящимся в затруднении. Тогда станет кристально ясно: если произойдет настоящий кризис, дефицит федерального бюджета с легкостью составит 25–30 миллиардов долларов в год. Это, в свою очередь, породит дальнейшую инфляцию, так же как и дефициты, возникшие в результате расходов военного времени, породили витки роста цен послевоенного периода.
Что это означает? Если кризис и наступит, он с большой вероятностью окажется короче, чем некоторые из великих депрессий прошлого. После него практически со стопроцентной вероятностью последует дальнейшая инфляция, а за ней – общее повышение цен, которое в прошлом помогло одним отраслям и нанесло ущерб другим.
Такой фон экономического цикла может представлять огромную угрозу для акционера финансово слабой компании. Потому что растущая компания с финансовой мощью или кредитоспособностью, позволяющей продержаться год-два тяжелых времен, вероятнее выстоит в период спада деловой активности при нынешних экономических условиях. Для акционера это время означает временное сокращение рыночной стоимости акций, находящихся в его собственности, а не угрозу самому существованию его инвестиций, вполне реальную до 1932 г.
Эта инфляционная тенденция стала так глубоко отражена и в наших законах, и в общепринятых концепциях экономических обязанностей государства, что из нее вытекает еще один базовый финансовый тренд. Облигации стали неудобной инвестицией для долгосрочного вложения средств среднего индивидуального инвестора. Постепенное повышение процентных ставок ранее происходило на протяжении нескольких лет и набрало значительный темп осенью 1956 г. Поэтому облигации с высоким рейтингом стали продаваться по самой низкой за 25 лет цене. Финансовое сообщество стало выступать за переход от акций, которые продавались по невиданно высоким ценам, к ценным бумагам с фиксированной доходностью.
Аномально высокий доход от облигаций по сравнению с дивидендами от акций (в сравнении с обычным соотношением) мог бы показаться мощным аргументом в поддержку такой политики.
В краткосрочной перспективе такая политика рано или поздно могла бы оказаться прибыльной. Сама по себе она была привлекательной для трейдеров, которые практикуют краткосрочные или среднесрочные инвестиции и при этом проницательны и способны определять подходящее время для покупки и продажи. Дело в том, что любой значительный спад деловой активности практически наверняка вызовет ослабление денежных курсов и соответствующее повышение цен на облигации. В то же время котировки акций вряд ли будут внушать оптимизм.
Таким образом, облигации с высоким рейтингом могут быть полезны для спекулянтов и невыгодны для долгосрочного инвестора. Это заключение, казалось бы, противоречит общепринятому мнению по этому вопросу. Однако понимание влияния инфляции продемонстрирует, почему я, вероятнее всего, прав.
В декабрьском письме за 1956 г. First National City Bank of New York предоставил таблицу, демонстрирующую мировую тенденцию на снижение покупательной способности денег, которая произошла за десятилетие 1946–1956 гг. В эту таблицу включены 16 крупнейших стран свободного мира. В каждой из них стоимость денег значительно снизилась. Эти спады варьировались от минимума в Швейцарии, где в конце 10-летнего периода покупательная способность денег снизилась на 15%, до максимальных значений в Чили, где за десять лет деньги потеряли 95% своей стоимости. В США спад достиг 29%, а в Канаде – 35%. Это означает, что в США годовой темп обесценивания денег составил 3,4%, а в Канаде – 4,2%.
В то же время доходность облигаций правительства США, купленных в начале этого периода, у которых, нужно признать, была достаточно низкая процентная ставка, составила лишь 2,19%. Выходит, собственник таких ценных бумаг с фиксированной доходностью и высоким рейтингом на самом деле получал отрицательный процент (то есть убыток) в размере более 1% годовых, если учитывать реальную стоимость денег.
Однако предположим, что вместо приобретения облигаций с крайне низкой процентной ставкой, которая преобладала в начале этого периода, инвестор мог бы купить их с гораздо более высокой процентной ставкой, которая преобладала спустя десять лет. В той же статье First National City Bank of New York также предоставил данные и на этот случай.
В конце периода, о котором шла речь в статье, банк оценил доходность облигаций правительства США в 3,27%, что все равно не принесло бы владельцу облигаций никакой прибыли, а только небольшие убытки. Однако спустя полгода после публикации статьи процентные ставки резко возросли и достигли примерно 3,5%. Сколько бы на самом деле заработал инвестор, если бы в начале периода у него была возможность инвестировать в облигации с такой высокой доходностью на протяжении четверти века? В абсолютном большинстве случаев он бы все равно не получил реальной прибыли от своих вложений. Скорее всего, понес бы убытки. Почему? Потому что практически всем приобретателям таких облигаций пришлось уплатить не меньше 20% подоходного налога на полученную процентную ставку, прежде чем можно было рассчитать истинную доходность их инвестиций.
В большинстве случаев налог с держателей облигаций составил бы значительно более высокий процент, так как только первые 2 000–4 000 долларов облагаемого налогом дохода соответствуют этому уровню в 20%. Аналогично, если бы инвестор приобрел не облагаемые налогом муниципальные облигации при этих рекордно высоких уровнях процентных ставок, то несколько сниженная процентная ставка на эти безналоговые ценные бумаги опять же не обеспечила бы настоящей прибыли от инвестиций.
Конечно, приведенные банком данные позволяют сделать выводы только об этом десятилетнем периоде. Тем не менее они показывают, что эти условия справедливы для всего мира и, таким образом, их маловероятно обратить вспять с помощью политических тенденций в одной стране.
Касательно привлекательности облигаций в качестве долгосрочных вложений важно понимать, можно ли ожидать подобной тенденции в последующем периоде. Полагаю, если тщательно изучить весь этот инфляционный механизм, станет ясно, что
крупные скачки инфляции происходят от массового расширения кредитования.
Оно возникает в результате крупных дефицитов бюджета, которые значительно увеличивают денежную базу кредитной системы. Именно такую базу заложил огромный дефицит, который появился из победы во Второй мировой войне. В результате довоенные держатели облигаций, которые сохранили свои позиции в ценных бумагах с фиксированным доходом, потеряли более половины реальной стоимости своих вложений.
Как я объяснил выше, наше законодательство и, что более важно, наши общепринятые убеждения о верных действиях во время экономического кризиса делают неизбежным один из двух путей. Либо бизнес останется в хорошем состоянии – и в этом случае находящиеся в обращении акции будут выгоднее облигаций. Либо произойдет значительная рецессия – и тогда облигации временно станут прибыльнее даже лучших акций. При этом запустится цепочка крупных действий, порождающих дефицит бюджета, которые вызовут еще один крупный спад покупательной способности облигационных вложений. Экономический спад наверняка вызовет последующую значительную инфляцию.
Так как в такой беспокойный период крайне трудно определить, когда следует продать облигации, я полагаю, что ценные бумаги такого рода в нашей запутанной экономике в основном подходят либо банкам, страховым компаниям и прочим организациям с долларовыми облигациями, которые позволяют компенсировать убытки, либо индивидуальным инвесторам с краткосрочными целями. Они не обеспечивают долгосрочным инвесторам компенсацию вероятного дальнейшего понижения покупательной способности.
Прежде чем закрыть эту тему, кратко резюмирую инвестиционные уроки, которые можно извлечь из исследования прошлого и сравнения крупнейших различий между прошлым и настоящим, с точки зрения инвестора.
Такое исследование дает понять, что крупнейшую прибыль от инвестиций получают те, кто благодаря удачливости или чутью время от времени находят компании, которые спустя годы могут нарастить объем продаж и прибыль в гораздо большей степени, чем отрасль в целом. Далее оно демонстрирует, что, найдя такую компанию, следует длительное время удерживать ее акции. Оно настойчиво намекает, что эти компании необязательно должны быть молодыми и небольшими. Вместо размера истинное значение имеет руководство, обладающее и решимостью достичь дальнейшего значительного роста, и способностью воплотить эти планы в реальность.
Прошлое дает нам еще один урок: этот рост часто ассоциируется с пониманием, как организовать исследования в различных областях естественных наук, чтобы вывести на рынок экономически выгодные, взаимосвязанные линейки продуктов. Общая характеристика таких компаний – это руководство, которое внимательно относится к долгосрочному планированию и при этом не теряет бдительности, блестяще выполняя повседневные задачи бизнеса. В конце концов такое руководство вселяет уверенность, что, несмотря на огромное количество потрясающих инвестиционных возможностей, существовавших лет 25–50 назад, в наши дни, вероятно, есть еще больше таких возможностей.