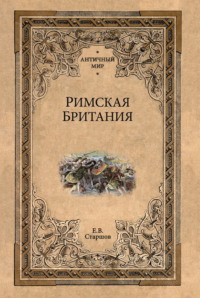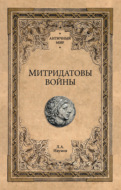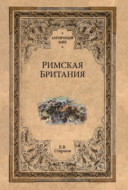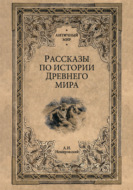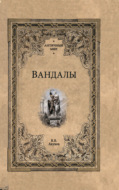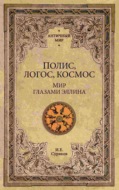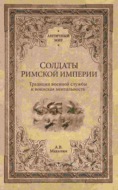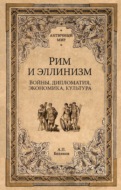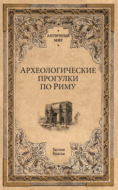Czytaj książkę: «Римская Британия», strona 2
Рассказывая о Британии, Страбон использовал труды предшественников, до нас, к сожалению, не дошедшие, – купца-грека из Массилии (совр. Марселя) Пифея (380–310 гг. до н. э.) и историка, философа и астронома Посидония Родосского (135—51 гг. до н. э.), учителя Цицерона. Особо чувствительна утрата сочинения Пифея («Об океане»), которого порой именуют первооткрывателем Британии; по данным Т. Пауэлла, Пифей почти точно наименовал Британские острова этим их именем, правда, в кажущейся нам слегка искаженной форме – «Пританские»; однако похоже, что эта форма как раз аутентична, предполагая обозначение местных обитателей, как pretani/preteni, подтверждением чего служит валлийское обозначение Британии – Prydain; Пауэлл предполагает, что это римляне, в силу законов латинского языка, произвели озвончение первого звука, отчего и произошли «Британия» и «британцы/бритты». Но как тогда быть с этим топонимом у (Псевдо-)Аристотеля? Тут никакое латинское озвончение не действует… А если вспомнить, как это делает Г. Хьюз, валлийские слова brith – «разноцветный, пятнистый», и brethun – «ткань», то Британия может быть обязана своим названием ярким раскрашенным одеждам (вроде шотландского тартана) кельтов. Поэтому вопрос оставляется открытым. Пифей не только побывал в Британии около 325 г. до н. э., но и оставил ее описание «в виде треугольника», поведал о ее жителях и т. п., причем завершил свое путешествие, добравшись до таинственного Туле (Фулы) – очевидно, Скандинавии (возможно, даже точнее – Исландии)7. Оставив в стороне исчисления Страбоном расстояний и т. п., приведем пересказанные им из труда Пифея данные о Британии IV в. до н. э.: «Пифей заявил, что прошел всю доступную для путешественников Бреттанию, он сообщил, что береговая линия острова составляет более 40 000 стадиев, и прибавил рассказ о Фуле и об областях, где нет более ни земли в собственном смысле, ни моря, ни воздуха, а некое вещество, сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское легкое; в нем, говорит Пифей, висят земля, море и все элементы, и это вещество является как бы связью целого: по нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле. Что касается этого, похожего на легкое вещества, то он утверждает, что видел его сам» («География», II, 4, 1). Надо полагать, греческий купец пишет о скандинавских туманах и льдах, но не они нас сейчас интересуют.
«Бреттания по форме представляет треугольник; ее самая длинная сторона простирается параллельно Кельтике, которую она не превосходит длиной, но и не уступает ей; каждое из двух побережий по длине составляет приблизительно 4300 или 4000 стадиев; как кельтское побережье от устьев Рена до северных оконечностей Пиренеев близ Аквитании, так и побережье Бреттании от Кантия, прямо напротив устьев Рена, самого восточного пункта Бреттании, вплоть до западной оконечности острова, лежащей против Аквитании и Пиренеев, – это, конечно, самое короткое расстояние от Пиренеев до Рена, так как, как я уже сказал, наибольшее составляет около 5000 стадиев. Но, вероятно, имеет место некоторое отклонение от того параллельного положения, которое река и горы занимают в отношении друг друга, так как на концах, там, где они приближаются к океану, есть некая кривизна.
Существует 4 пункта переправы, которыми обычно пользуются при переезде с материка на остров: от устья рек Рена, Секваны, Лигера и Гарумны. Но те, кто выходит в море из областей Рена, совершают путешествие не от самого устья, но с берега моринов, соседей менапиев. На их берегу находится также Итий, которым воспользовался как якорной стоянкой Божественный Цезарь для переправы на остров. Он вышел в море ночью и высадился на следующий день около четвертого часа, пройдя 320 стадиев морского пути; и он застал хлеба еще на полях. Остров большей частью является равниной, поросшей лесом, хотя во многих местах встречаются и холмы. Остров производит хлеб, скот, золото, серебро и железо. Отсюда вывозятся эти предметы, а также кожи, рабы и породистые собаки для охоты; кельты используют этих и туземных собак и на войне. Жители Бреттании более рослые, чем кельты, и менее светловолосые, но более хрупкого телосложения. Доказательством их рослости может служить следующее: я видел сам в Риме бреттанских подростков, возвышавшихся на полфута выше самых высоких мужчин в городе, хотя они были кривоногими и не отличались стройностью телосложения. Обычаи бреттанцев отчасти похожи на кельтские, отчасти же более простые и варварские, так что некоторые при изобилии молока не умеют приготовлять из него сыр; бреттанцы неопытны и в садоводстве, и в прочих земледельческих занятиях. У них есть племенные вожди. На войне у них большей частью в ходу колесницы, как и у некоторых кельтов. Города бреттанцев – это леса, ибо они огораживают поваленными деревьями широкое пространство в виде круга и там устраивают для себя хижины и стойла для скота, однако не надолго. У них чаще идут дожди, чем снег, и даже в погожие дни туман держится так долго, что за целый день солнце видно только 3 или 4 часа около полудня. Эти [явления] происходят и у моринов, менапиев и всех их соседей» («География», IV, 5, 1–2). Интересно отметить, что Страбон подмечает уже определенные отличия бриттов от собственно кельтов, что вполне можно объяснить смешением последних с прежними обитателями Британии.
Диодор Сицилийский дает свое описание Британии, восходящее к Пифею также отдельными фрагментами (пер. с англ. Е.С.): «Напротив той части Галлии, которая простирается к океану от самого так называемого Герцинианского леса, как его называют, величайшего из известных в Европе, в океане есть много островов, из которых самый большой – Британия. В древние времена на остров не высаживались чужеземные войска, ибо ни Дионис, как повествует нам традиция, ни Геракл, ни какой-либо иной герой или предводитель не ходил туда войной; в наше время, однако, Юлий Цезарь, названный богом благодаря своим деяниям, стал первым человеком, о котором записано, что он завоевал Британию; подчинив бриттов, он принудил их платить дань. Но мы дадим детальное описание того, как происходило это завоевание, в свое время (к сожалению, Диодор не успел исполнить эту часть своего замысла. – Е.С.), а сейчас поговорим об острове и олове, которое на нем добывают.
Британия по форме [представляет собой] треугольник, во многом подобный Сицилии, но его стороны не равны. Остров простирается наискось вдоль Европы, и тот выступ, где он наиболее близко подходит к материку на расстояние в 100 стадиев, именуют Кантиум (т. е. Передняя Земля, иначе – Кент. – Е.С.), а там, где сток у моря (т. е. где Северное море впадает в океан. – Е.С.) – второй выступ, именуемый Белериум (т. е. Конец Земли. – Е.С.), до которого, как говорят, надо плыть 4 дня от материка; а последний [выступ], простирающийся, как нам говорят писатели, прямо в открытое море, называется Орка (Данкансбей Хэд на северной оконечности Шотландии; там, на севере, доныне острова, называемые Оркнейскими. – Е.С.). Из сторон Британии та, что идет вдоль Европы, – самая короткая, 7500 стадиев; вторая, от пролива к северной оконечности – 15 000 стадиев, а последняя – 20 000 стадиев, так что общая окружность острова составляет 42 500 стадиев (английские комментаторы Диодора сообщают, что эта цифра вдове превышает реальную и заимствована Диодором у Пифея. – Е.С.).
Британия, как нам сообщают, населена автохтонными племенами, сохраняющими свой древний образ жизни. Например, во время войны они используют колесницы, так же, как, согласно традиции, ими пользовались греческие герои во время Троянской войны; жилища их скромные, большей частью выстроенные из бревен и камыша. Урожай они собирают следующим образом: отрезают лишь верхнюю часть, с зернами и хранят их в покрытых крышами амбарах, и затем они каждый день забирают оттуда спелые колосья, мелют и таким вот образом получают еду. Что касается их привычек, они (бритты) просты и далеки от злобы, столь характерной для людей нашего времени. Живут они скромно, поскольку лишены роскоши, происходящей от [излишнего] богатства. Остров довольно густо населен, а его климат чрезвычайно холодный, что, впрочем, ожидаемо, раз он располагается прямо под [созвездием] Большой Медведицы. Им владеют множество королей и вождей, живущих, по большей части, в мире друг с другом (интересно, что последнее утверждение идет вразрез с общепринятым мнением, справедливо основывающимся на таких свидетельствах, как это, из Корнелия Тацита (58—117 гг. н. э.): «Прежде британцы повиновались царям; теперь они в подчинении у вождей, которые, преследуя личные цели, вовлекают их в междоусобные распри. И в борьбе против таких сильных народов для нас нет ничего столь же полезного, как их разобщенность. Редко когда два-три племени объединятся для отражения общей опасности; таким образом, каждое из них сражается в одиночку, а терпят поражение – все» («Жизнеописание Юлия Агриколы», 12). – Е.С.).
Но мы дадим более детальный отчет об обычаях бриттов и иных присущих острову особенных чертах, когда дойдем до описания предпринятой Цезарем против них кампании (опять приходится сожалеть, что Диодору не было суждено довести свой замысел до конца! – Е.С.), а пока поговорим об олове, добываемом на острове. Обитатели Британии, живущие на выступе Белериум (почти наверняка это совр. мыс Св. Михаила в Корнуолле. – Е.С.) особенно гостеприимны к странникам и приобщились к цивилизованному образу жизни благодаря контактам с чужеземными купцами. Они-то и добывают олово, копая залежи простым способом. Почва там каменная, в которой есть пласты земли, и вот в них-то и содержится руда. Ее выплавляют, очищая от примесей. Затем они отливают олово [в формы], напоминающие [конские] бабки, и отправляют на лежащий около Британии остров, именуемый Иетис; во время отливов этот остров соединяется с сушей, и можно провезти туда олово в тележках (весьма интересно, что та же вещь происходит на соседних островах меж Британией и Европой, там прилив настолько силен, что все проходы меж ними [и материком] заливаются водой, и они выглядят как настоящие острова, а когда во время отлива море отступает, они становятся полуостровами). На острове Иетис олово скупают местные купцы и перевозят через Галльский пролив; наконец, пройдя 30 дней пешком по Галлии, в устье Роны они грузят свою поклажу на лошадей» («Историческая библиотека», V, 21–22).
Вот, собственно, все, что мы знаем о Британии «до Цезаря»8, и то, за исключением Геродота, это более поздние источники, пересказывающие древних авторов. Восполнить лакуны отчасти помогают данные археологии. О «коренных» обитателях Британии известно крайне мало, разве что это были палеолитические охотники и рыболовы, следы которых обнаружены в речных наносах и пещерах (примечательно обнаруженное в 1823 г. в валлийском Дифеде палеолитическое захоронение молодого охотника – останки были покрыты охрой, и рядом с ними положены кости мамонта, явное свидетельство неких заупокойных обрядов). Кроме мамонтов, обнаружены останки съеденных бизонов, шерстистых носорогов, оленей и лошадей. В ту пору будущая Британия даже еще не была отделена от Европейского континента, будучи объединенной с ним не только льдами, но и сушей, с тысячелетиями последняя сократилась до узкого перешейка, в итоге также исчезнувшего. Это отделение состоялось постепенно между 8000 и 3000 гг. до н. э. Люди мезолита приручили собак и владели искусством мореходства (найдены остатки их челнов). Известно, каков был их мясной рацион: его составляли как крупные, так и довольно мелкие разнообразные животные, такие как косули, лоси, маралы, бизоны, свиньи, лисы, зайцы, бобры, ежи и барсуки. Весьма интересны и пока необъяснимы находки в виде обработанных оленьих рогов и черепов, чьи формы были намеренно изменены. Вполне вероятно, речь идет о первобытной магии охотничьих обрядов. Неолитические обитатели острова оставили по себе на юге довольно многочисленные каменные могильники, полные различных артефактов; известно, что к охоте и рыболовству они прибавили скотоводство и мотыжное земледелие. По данным В.В. Штокмар, к этому периоду уже вполне можно отнести существование первых британских дорог – Икнилд и Дорогу Пилигрима. Находка статуэтки типичной пышной «Венеры» возле Тетфорда – свидетельство общечеловеческого культа Богини-Матери.
Около 2000 г. до н. э. будущие Британские острова захватывают иберы, или иберийцы, оставившие по себе мегалитические и длинные курганные могильники (до 60 м). Таинственный Стоунхендж в Уилтшире, состоящий из нескольких каменных кругов (он строился в три этапа), чье истинное назначение неизвестно доныне (святилище, могильник – но найденные там останки гораздо младше самого сооружения – или астрономическая обсерватория – а может, все это вместе?) – это их работа. И это – лишь один из самых известных примеров, притом – частично реконструированный. Куда менее «разрекламирован» подобный, но более крупный памятник в Эйвбери, о котором Массингем свидетельствует, что многие его камни растащены фермерами, однако и то, что осталось, привело в восхищение посетившего его короля Карла II. Сравнивая его со Стоунхенджем, Массингем образно выразился, что Эйвбери относится к нему, как кафедральный собор – к приходской церквушке. 15 его монолитов возвышаются доныне, а общее число камней должно было составлять порядка 500–100 во внешнем круге, 30 – для северного круга, 12 – для его внутреннего круга, по 30 – для двух южных кругов, один – для центрального обелиска первого из них и три – для свода в другом, один круглый камень меж этих кругов, 200 – для оформления священного пути оттуда к Овертон-Хилл, 40 – для внешнего круга наверху Хэкпен-Хилл, 18 – для внутреннего, три – в составе так называемых Колец дьявола в Бекхэмптоне, и еще камни на вершине Овертон-Хилл, где, кстати, были обнаружены захоронения. Для того чтоб сдвинуть большой монолит высотой в 6–7 м, требовались силы ста человек. Обычно наличие подобных памятников обусловлено расположением неподалеку залежей гранита, известняка и т. п., хотя для Стоунхенджа, к примеру, знаменитые «голубые камни» (они находятся в центре каменных кругов и покрыты плитами, окружая жертвенник из зеленого слюдяника) доставляли из Пембрукшира – а это почти 400 км, наверняка для такого тяжкого труда была особая мотивация, которой мы, к сожалению, не знаем.
Также с деятельностью иберов связывают добычу золота в Ирландии и оживленную торговлю с Испанией (недаром она расположена на полуострове, называемом Иберийским, явно там имелись «родственники»), начинается «имущественное расслоение». В 1800–1750 гг. до н. э. на востоке и юго-востоке их теснят родственные им так называемые альпийские «народы чаш», принесшие с собой умение изготовления предметов и оружия из бронзы (в районе эстуария Темзы найдены прекрасные бронзовые мечи Х в. до н. э. т. н. прирейнской формы, в Великобритании и Ирландии имеются многочисленные находки бронзовых топоров, практикуется изготовление предметов из листового металла). Начинается ткачество из льна и шерсти. Продолжается экспорт золота из Ирландии, около 1000 г. до н. э. вовсю идет упомянутая ранее торговля драгоценными металлами с Финикией, а затем – с Карфагеном. Первыми ласточками кельтской экспансии на юг и юго-восток будущей Британии двумя волнами проникают беженцы из Северной Франции, согнанные со своих мест экспансией людей «культуры погребальных урн» (IX–VIII вв. до н. э.), а также жители берегов швейцарских озер, изгнанные гальштатскими воинами (VII в. до н. э.). Эти гальштатцы и проникли завоевателями на Альбион, распространяясь к северу и западу. Их успеху, судя по данным археологии, способствовали не только более совершенное оружие – длинные мечи, но и конница – в захоронениях кельтских завоевателей обнаружены лошадиные сбруи. Так, примерно в это время, ок. 800–700 гг. до н. э., начинается эпоха кельтского завоевания будущей Британии9. Редкие остатки укреплений, датируемые этим временем (напр., у Мэйден-Касл), свидетельствуют о предполагаемом отпоре чужеземцам. Вместе с тем А. Мортон полагает, что, несмотря на последовавшую череду завоеваний, именно иберийцы стали родоначальниками большей части населения Британских островов. Здесь к иберийским племенам относят пиктов (хотя название этого племени севера Британии – чисто латинское и означает «раскрашенные», и, судя по всему, римляне относили пиктов все-таки к кельтам-бриттам), атекоттов и каледонцев.
Кельтская экспансия заслуживает отдельного подробного разговора, который здесь не вполне уместен; отметим лишь, что ее история, как и прочие подобного рода явления, весьма наглядно иллюстрируют теорию Л.Н. Гумилева о пассионарности народов. Их своеобразный «очаг» – гальштатская культура (900–400 гг. до н. э.), на относительно небольшом участке территории – там, где сходятся нынешние Австрия, Германия, Швейцария и Франция. 500 г. до н. э. застает «разлив» кельтов оттуда по Европе – на современной карте он был бы обозначен за границами Рейна, на подступах к Скандинавии, занял бы юг Австрии, временно был бы огражден Альпами, занял бы почти всю Францию (кроме Бретани), две трети Испании, Португалию, юго-восток Англии. Примерно в это время их несколько раз упоминает Геродот в своей «Истории»: «Река Истр начинается в стране кельтов у города Пирены и течет, пересекая Европу посредине. Кельты же обитают за Геракловыми столпами по соседству с кинетами, живущими на самом крайнем западе Европы» («История», II, 33); «Истр течет через всю Европу, начинаясь в земле кельтов – самой западной народности в Европе после кинетов. Так-то Истр пересекает всю Европу и впадает в море на окраине Скифии» («История», IV, 49).
За век до нашей эры наша карта расселения кельтов изменилась бы еще более радикально, и мы б увидели, что кельты овладели всей Великобританией и Ирландией, преодолели Альпы и заняли Северо-Восточную Италию, двинулись через Венгрию и будущую Болгарию на Балканы, а оттуда – в Малую Азию. Лишь стойкое сопротивление римлян, греков, македонцев и эллинистических царей Малой Азии – Атталидов и Селевкидов – положило конец разливу этого потопа, а ведь кельтами в свое время был взят Рим (390 г. до н. э.), чуть не разорены Дельфы (279 г. до н. э.) и т. п.! Знаменитейший Пергамский алтарь Зевса, изображавший борьбу богов-олимпийцев с земнородными чудовищами-гигантами – как раз памятник одной из таких побед, одержанных царем Атталом I над вторгшимся кельтским врагом (240 г. до н. э.), и на фризах пергамского храма Афины Никефоры («Победоносицы») было изображено трофейное кельтское оружие. В центре Малой Азии (совр. Турции) образовалась целая кельтская страна – Галатия, обитателям которой в свое время адресовал свое послание апостол Павел, сохранившееся в корпусе писаний Нового Завета. Но мы обратим свое внимание лишь на племена, попавшие на Британские острова.
Кельты прибывали на новое островное место жительства разными племенами и в разное время, своеобразными волнами, о чем доныне свидетельствуют вымершие или существующие доныне кельтские языки английских соседей. По Б.А. Ильишу, Т. Пауэллу, Э. Росс, С. Пиготту, А. Паламарчуку и мн. др., они четко делятся на две ветви: Р-кельтскую (иначе бриттскую, представлена древневаллийским – кимрийским, запад Англии, корнским (вымер только в XVIII в., Корнуолл, юго-запад Англии; сейчас производятся судорожные попытки общественности возродить его), бретонским (в Бретани, север Франции), западнобриттским и северобриттским языками) и Q-кельтскую (иначе – гэльскую или гаэльскую (об этом слове – чуть ниже), более архаичную, представлена древнеирландским, мэнским (именуемом Manx, на острове Мэн меж Великобританией и Ирландией10) и шотландским гэльским (именуемом Erse) языками), имея также параллели в топонимах Галлии и Испании11. При этом кельтские языки вообще делятся на две основные группы: галло-бретонскую и гаэльскую. Последней соответствует Q-кельтская ветвь, а первая включает не только Р-кельтскую ветвь, но и галльский язык, на котором говорили кельты континентальной Галлии. Вообще даже ставится вопрос о том, насколько далеко разошлись в своем развитии эти две ветви и могли ли их носители вообще на момент римского завоевания понимать друг друга.
Первыми, в 800–700 гг. до н. э., на Британские острова прибыли гэлы (гаэлы, не следует путать их с галлами!), иначе – гойдели. Остановимся немного на этих названиях. Гэлы, гэльский – английские формы, служащие для обозначения ирландцев и всего ирландского. Это – производное от «гойделы» или «гойдели», которое, в свою очередь, происходит от валлийского названия Ирландии – Gwyddel. Т. Пауэлл ставит вопрос о характере проникновения этих гальштатцев в будущую Британию и отвечает на него следующим образом: «Путешествовали ли они целыми общинами, с женщинами, владевшими бытовыми ремеслами, или переправлялись на острова небольшими отрядами в поисках приключений? Последнее представляется более вероятным, поскольку в Британии и Ирландии археологи повсюду находят предметы, которые можно назвать воинскими украшениями гальштатского типа, но нигде не обнаружено связанных с их обладателями остатков бытовой материальной культуры, присущей их континентальным сородичам. Это безусловно спорный вопрос, и ответ на него не так уж прост. Возглавляя медленный процесс миграций и обладая большей мобильностью, чем простые переселенцы, гальштатские воины имели возможность создавать отряды помощников, куда входили представители покоренных ими народов. Таким образом, мигранты могли принести в Британию и Ирландию не только оружие и украшения, но и новые принципы социальной организации».
В 400 г. до н. э. с берегов совр. Нидерландов и Северной Франции на острова попадают родственные гэлам бритты – тоже не по своей воле, но сдвинутые с насиженных мест представителями новой, латенской культуры, также кельтской. Бритты, отпрыски североальпийской культуры «полей погребальных урн», принесли с собой культуру железных орудий; последнее обстоятельство вкупе с легкими двухколесными боевыми колесницами позволило им вытеснить пользовавшихся бронзовым оружием «родственников» с плодородного юга и востока в гористый Уэльс, Шотландию, Ирландию12 и холмистые местности Девона и Пеннина. Как видим, обе народные волны говорили на разных ветвях кельтских языков. Примечателен тот факт, что переселение бриттов позволило резко увеличить численность жителей острова, и вовсе не из-за массовости пришельцев: просто они принесли с собой новые железные орудия труда, что позволило сильно повысить урожайность; как следствие – при этаких благоприятных условиях и население расплодилось, даже с учетом разного рода кровавых событий. В середине III в. до н. э. латенские завоеватели «догнали» бриттов и высадились на территории совр. Суссекса. Они были, правда, немногочисленны, поэтому, с одной стороны, не смогли одержать какой-то крупной победы и заняли йоркширские пустоши и юго-запад совр. Шотландии – однако, с другой стороны, они оказались достаточно сильны, чтоб не быть истребленными островитянами и где-то через полвека занять выгоднее для торговли с континентом место у Бристольского залива. Последняя волна – белгов (включая катувеллаунов – главных противников Цезаря) и примкнувших к ним тевтонов13, проникших в Кент с берегов Рейна, Сены и Марны, датируется примерно 200 г. до н. э. и связывается с неуклонной экспансией римлян в Галлию – напомним, что древняя Галлия лишь в некоторой своей части соответствует современной Франции, ее «историческая граница» с Римом проходила неподалеку от города Ариминум (совр. итал. Римини) по реке Рубикон, всем известной благодаря крылатой фразе Цезаря «Жребий брошен!»14 Есть мнение, что во II–I вв. до н. э. Британию прибыла и часть кельтов-паризиев, о чем свидетельствуют их типичные погребальные обряды (захоронение мужчин с колесницами или женщины с зеркалом, шкатулкой, булавкой и… половиной свиньи) – их «столицей» стала Петуария в Восточном Йоркшире. Некоторые историки полагают, что миграция отдельных кельтских племен продолжалась аж до 50 г. до н. э., т. е. после походов Цезаря, и связывают ее с именем атребатского вождя Коммия – друга Цезаря, впоследствии предавшего его (подробнее о нем – позже, в следующей главе).
Кельты известны гораздо лучше более древних «добриттских» племен, поскольку, с одной стороны, им уделяли большое внимание античные авторы, а с другой – несмотря на трагическую гибель древнебританской культуры и геноцид ее населения, осуществленный англосаксами, родственная ей культура прекрасно себя чувствовала и развивалась в Ирландии, оставив бесценное наследие в виде эпоса, сборников законов и т. д. – как справедливо указывает Т. Пауэлл, «кельтское литературное наследие, сохраненное с давних времен в Ирландии и Уэльсе, – древнейшее в Европе после греческого и латинского. Оно представляет собой зеркало, отражающее нравы и обычаи архаического общества умеренной климатической зоны Европы, колыбели европейской культуры… Язык и литература, не замутненные влиянием Римской империи и имеющие прямое отношение к древним кельтам, сохранились только в Ирландии». Иронично-лапидарно, как это вообще ему свойственно, С. Пиготт так обозначил особенность ирландского эпоса: «Литература эта (древнеирландская. – Е.С.) не только отличается от цивилизованной изысканности классических (т. е. греко-римских. – Е.С.) текстов своей безыскусностью и сельской простотой, но также представляет нам кельтское общество изнутри, а не снаружи. Поэтому она не одушевлена желанием анализировать, изучать и объяснять. Она ни в коей мере не стесняется самой себя, принимает кельтское общество как данность и одобрительно глядит вокруг глазами варвара из высших слоев своего мира». Это наследие прекрасно порой помогает понять обычаи, верования и психологию кельтов, несмотря, конечно, на определенные племенные и затем уже временные отличия.
Британские кельты жили родо-племенным строем: племена (ирл. tuath, впоследствии этот термин стал обозначать кроме самого племени еще и территорию его проживания) делились на кланы, те, в свою очередь – на роды (ирл. fine), составлявшиеся из семей (ирл. derbfine, связи внутри семьи простирались до троюродных братьев по мужской линии) – и периодически вступали меж собой в весьма непрочные союзы, часто распадавшиеся. Связи меж родами были крепче, нежели меж племенами, существовал святой обычай обмена пищей и – как следствие – невестами. Широко был распространен обряд взаимного усыновления, чтобы, в случае истребления врагами того или иного рода или семьи, обязательно уцелел бы наследник; дети мужского пола оставлялись в приемных семьях до 17 лет, женского – до 14, при этом принимавшая сторона была обязана обучить приемышей, в зависимости от пола, воинскому искусству, ремеслам, рукоделию и т. п. и получала за это плату. Убийца внутри рода становился изгоем, межродовые конфликты решались либо уплатой пени, либо кровной враждой в случае отказа от ее выплаты (надо отметить, что на обломках кельтско-бриттского мира законы родо-племенного уклада держались весьма долго, в Ирландии они живут практически до сих пор (несмотря на яростные попытки английских завоевателей)15, а в Шотландии были (и то не окончательно) «выкорчеваны» английской администрацией в XVII–XIX вв.). Продолжалось усиление имущественного неравенства, из общинных земель век от века все активнее выкраивались поместья воинской аристократии, отдельные представители которой уже стремились подчинять окрестные земли и их население, являя своего рода «корольков» – одним из них, например, был известный по запискам Цезаря Кассивелаун, властитель, как полагают, Камулодунума (название поселения некоторые связывают с именем кельтского бога войны). Прежнее население, порой сосуществовавшее с кельтами в одних и тех же поселениях, находилось, по определению А. Мортона, на положении полурабов. Таким образом, выделялись три класса населения – «благородные» (с этими все ясно), «свободные» (подразделявшиеся на владельцев частной собственности и, соответственно, на не владевших ею; они имели определенные политические права на ежегодных собраниях (oenach), обычно приуроченных к ярмаркам), и рабы (последняя категория была очень пестрой, она включала не просто рабов в привычном нам понимании, как таковых, но и различные деклассированные элементы, порой высокого происхождения, включая покоренных прежних местных жителей и деградировавшие семьи самих кельтов). Вожди племен (короли) за верную службу и определенные услуги даже гарантировали подданным своего рода политическую и социальную защиту и поддержку (celsine), которые вне tuath’а, разумеется, уже ничего не стоили. При удачном стечении обстоятельств властитель мог поставить в такое положение своего более слабого соседа со всем его народом. Военная аристократия, правда, не всегда была бессловесным орудием королей, и Цезарь отмечает, что, например, в части Галлии – Кельтике – именно злоупотребление вождей celsine привело к захвату реальной власти «верховными магистратами», вергобретами. В Аквитании и Белгике, напротив, власть королей была еще сильна.
Возвращаемся, однако же, в Британию. Жизнь текла своим чередом, дома бритты предпочитали строить круглые в плане – с одним (как в Бэннокберне, Йоркшире и Дареме) или двумя (как в Йоркшире, Дамфрисшире и Вигтауншире) входами-выходами, а хозяйственные постройки – прямоугольные (о чем свидетельствуют материалы раскопок в Уилтшире, Норфолке и др.), в районе современной англо-шотландской границы нередки были деревни и горные форты, сплошь состоявшие из круглых зданий, обнесенных укреплениями, чаще всего – палисадами; зерно хранили в силосных ямах, выложенных изнутри плетеными соломенными циновками (из-за большой влажности такие ямы в Британии быстро приходили в негодность, тогда вырывали новые, а старые служили для свалки мусора, ныне бесценного для археологов). В Ирландии и Шотландии обживали озера, сооружая кранноги – круглые жилища на природных или даже искусственно создаваемых островках или деревянных платформах. На холмах пасли скот, на равнинах расцветало хлебопашество, которое, благодаря введению в хозяйства сначала т. н. легкого плуга (без резака и отвала, просто лемех, взрезающий поверхность почвы), а потом и тяжелого плуга (способного взрезать и переворачивать плотную влажную глубинную землю, в него впрягали 4, а то и 8 волов!) позволило еще более повысить урожайность и более того – превратить зерно в экспортный продукт. Уже в середине I тысячелетия до н. э. Британия знала четырехпольную систему земледелия с паром и применением удобрений, широкое распространение которой на ее юге застали римляне. Также в Европу (а через нее – и в Азию) по-прежнему поставлялись олово, золото, серебро и другие металлы, а также жемчуг. О последнем упоминает Тацит: «Доставляет Британия также золото, серебро и другие металлы – дань победителям. Да и Океан порождает жемчужины, правда, тусклые и с синеватым отливом. Иные находят, что виной этому – неумелость тех, кто их добывает, ведь в Красном море раковины отдираются от подводных скал еще живыми и дышащими, а тут подбирают лишь выброшенные прибоем; я же склонен считать, что скорее здешним жемчужинам недостает их природных качеств, чем нам – корысти» («Жизнеописание Юлия Агриколы», 12). Аммиан Марцеллин (330–395 гг.) также не обошел своим вниманием британский жемчуг, посетовав насчет его качества; интересны и наивны его рассуждения о происхождении жемчуга: «Остается сказать лишь несколько слов о происхождении жемчуга. Его находят у индийцев и персов в твердых белых морских раковинах. Он зарождается от присоединения росы в определенное время года. Живущие в раковинах улитки чувствуют как бы половой позыв и, быстро открываясь и закрываясь, принимают влагу, пропитанную лунным светом. Становясь от этого беременными, они зачинают по два или по три маленьких шарика, или один, как наблюдается это иногда в выловленных раковинах. Такой шарик бывает больше размерами, отсюда и происходит название unio. Подтверждением тому, что жемчужины происходят скорее из эфира, чем от питания из моря, может служить то, что если на них брызнут капли утренней росы, то они становятся светлыми и круглыми, а капли вечерней росы делают их угловатыми и рыжеватыми, а иногда даже пятнистыми. Маленькими или большими делаются они из-за различных случайностей соответственно качеству воспринятой влаги. Закрытые улитки часто засыхают от страха перед молниями, или дают плохой жемчуг, или, наконец, у них происходит выкидыш. А то, что ловля их весьма трудна и опасна и цены на них столь высоки, объясняется тем, что они избегают посещать людные берега из-за замыслов рыбаков и, как предполагают, скрываются у труднодоступных утесов и пристанищ морских псов. Небезызвестно, что в уединенных бухтах британского моря также водятся эти раковины и что там их собирают, хотя они много ниже по качеству» («Римская история», XXIII, 6, 85–88).