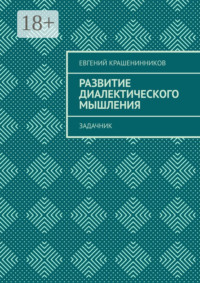Czytaj książkę: «Развитие диалектического мышления. Задачник», strona 3
3. Опыт проведения уроков на основе диалектических задач
Помимо работы с учителями, организаторами семинара были проведены три урока с учениками девятых классов, на которых присутствовали и учителя, участвовавшие в семинаре. Это были не показательные занятия, а модельные, чтобы после в процессе анализа можно было выявить, а после обсудить проблемы и перспективы диалектического обучения.
Модельный урок №1. Предмет: литература.
Тема: «Автор и герой литературного произведения» (проектировщики: А. К. Белолуцкая, Н. Е. Веракса; педагог: А. К. Белолуцкая; краткое описание основано на материалах А. К. Белолуцкой). Педагог встречался с классом впервые.
Урок литературы проводился в процессе изучения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Перед детьми была поставлена задача: почему Достоевский в романе убивает Свидригайлова, но оставляет в живых Раскольникова и Лужина? В данной задаче не сформулировано противоречие, которое нужно разрешить путём применения диалектических мыслительных операций. Детям задан вопрос, в котором противоположности носят внешний характер: погиб – остался в живых. Но так как смерть персонажа является значимым фактом, то и задача затрагивает школьников, побуждает к поиску.
Школьникам были даны предварительные задания:
1. Назовите существенные характеристики личности (то есть «Человека с большой буквы») по Раскольникову и по Достоевскому?
Пояснения к заданию:
У Раскольникова и Ф. М. Достоевского противоположные понимания того, что есть «личность». По Раскольникову: личность – тот, кто может (не побоится, осмелится) принести в жертву другого, ради доказательства собственного величия и экстраординарности. По Ф. М. Достоевскому личность – тот, кто может (не побоится, осмелится) принести в жертву себя ради другого человека. Ключевой концепт, присущий личности (настоящему человеку) по Ф. М. Достоевскому – любовь. Любовь Сонечки Мармеладовой спасает Раскольникова. Положительный Разумихин искренне любит Дуню. Лужин и процентщица никого не любят. Свидригайлов совершает какие-то судорожные потуги «на любовь», но пороки мешают ему, и он в итоге стреляется. Задание подразумевало совершение диалектической мыслительной операции «превращение», то есть противопоставление двух пониманий личности. Перед этим от авторов задачи требовалось в процессе проектирования совершить диалектическое объединение (когда в едином целом выделяются существенные, смыслообразующие противоположности).
Сразу обнаружились трудности, не предполагавшиеся разработчиками занятия. Для старшеклассников оказалось сложным развести автора и персонажа. Хотя на вопрос, призывает ли Ф. М. Достоевский следовать путём Раскольникова («тварь ли я дрожащая или право имею» – «надо всей дрожащей тварью и надо всем муравейником», чтобы потом «загладить тысячей добрых дел»), ученики отвечали однозначно, что нет; но всё написанное в романе и произносимое от лица разных персонажей воспринималось как тезисы самого Ф. М. Достоевского (не размышления, не спор с предполагаемыми оппонентами, а именно тезисы, с которыми он в той или иной мере – но всегда в большой – согласен).
Поэтому значительная часть урока сразу пошла не по плану, но при этом не потеряла своей диалектической заострённости, так как работа шла с противоположностями: мысль автора – мысль персонажа.
– 1 группа. – 2 группа. 2. Нарисуйте структуру (схему) мужских образов романа Нарисуйте структуру (схему) женских образов романа
При этом брались только ключевые персонажи:
Мужские: Раскольников, Лужин, Свидригайлов, Разумихин.
Женские: процентщица, Дуня Раскольникова; Сонечка Мармеладова; Елизавета (сестра старухи-процентщицы).
У разработчиков имелась предварительная структура, при этом идеальным вариантом было, чтобы школьники увидели универсальную структуру как женских, так и мужских образов.
Первой проблемой, с которой неожиданно столкнулся педагог, было недоумение учеников по поводу включения в структуру женских персонажей Елизаветы (она же практически не появляется в романе, о ней, в-основном, рассказывают), старухи-процентщицы (её же убили в самом начале) и даже Дуни Раскольниковой (она воспринималась как проходной персонаж, вроде матери Раскольникова, несмотря на то, что вокруг ней производили действия два существенных мужских персонажа; более важным казалось включение в список супруги Мармеладова).
По версии разработчиков занятия такое структурирование образов лучше схватывает суть, чем трактовка, предполагающая что Раскольников, Свидригайлов и Лужин суть одно и то же, то есть один и тот же характер, но явленный в разных жизненных обстоятельствах (тема «Двойники Раскольникова в романе»; хотя «двоящиеся» персонажи, разумеется, тоже благодатная почва для диалектического размышления).
Дальше была дана собственно задача: «» (предполагаемое диалектическое мыслительное действие: «обращение»). Если по Ф. М. Достоевскому существенной характеристикой человека является любовь, то Лужин – уже мертв, так как он никого не любит, а это значит, что его убивать еще раз смысла нет. 3. Почему Достоевский убивает Свидригайлова, но оставляет в живых Раскольников и Лужина?
В результате урока школьники смогли сами прийти к предполагаемой диалектической структуре, но насытить её содержанием не успели из-за нехватки времени.
Модельный урок №2. Предмет: история.
Тема: «Смутное время Российского государства» (проектировщик и педагог: Е. Е. Крашенинников). Математический класс гимназии. Педагог встречался с классом впервые.
Перед детьми был поставлен вопрос: «Являлся ли законным правителем России Борис Годунов?» Вопрос вызвал сначала общее недоумение, так как ученики знали, что Годунов входил в правящую элиту царства (в том числе и с помощью родственных связей, как шурин царя и зять одного из ближайших сподвижников прежнего государя), практически правил Россией при Фёдоре Иоанновиче, был зван на престол представителями народа, венчан на царство. Но так как ученики изучали и «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, то вопрос быстро приобрёл остроту: если законный наследник уже умер, и трон пуст, то может ли его предполагаемый убийца считаться законным правителем при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
Среди школьников не было ярко выраженных сторонников той или иной версии; обсуждение происходило в режиме «колебания» мнений. Тогда, не дожидаясь какого-то продуктивного выхода из ситуации (и тем более единогласного решения), педагог поставил новый вопрос: «Был ли законным Дмитрий Самозванец?» Первым ответом было «нет», так как он не Рюрикович, но предыдущее обсуждение вывело сразу на свет представителя новой династии – Годунова, который тоже Рюриковичем не был. Дискуссия попробовала уйти в выяснение происхождения Дмитрия (Лжедмитрия). Но сами школьники пробовали возвращаться к критериям законности, ещё раз формулировать их.
После этого прежний вопрос был задан по отношению к третьему историческому персонажу этой эпохи – Василию Шуйскому. И хотя он не убивал наследников предыдущего царя, был Рюриковичем и прошёл все формальные процедуры, у школьников возникли сомнения, особенно когда вопрос повторился в отношении Владислава, польского королевича, официально приглашённого занять российский престол. И уже после этого вопрос о законности прихода к власти Михаила Фёдоровича Романова не показался однозначным.
В самом конце урока педагог спросил: «А был ли законным царь Иван Грозный, если при нём не существовало никаких законов, кроме его собственного волеизъявления?». С этим вопросом ученики разошлись на перемену.
Педагог выносил на доску характеристики «законности». На уроке не было необходимости проблематизировать каждую характеристику, так как это происходило само собой при назывании нового имени российского царя. Важно, что в обсуждении участвовали ученики с разной степенью как интереса к истории, так и знания её.
Помимо изначальной пары противоположностей «законность – незаконность» на уроке возникла пара «законность – справедливость».
Модельный урок №3. Предмет: история.
Тема: «Смутное время Российского государства» (проектировщик и педагог: Е. Е. Крашенинников). Гуманитарный класс гимназии. Педагог встречался с классом впервые.
Урок проходил на материале того же параграфа учебника, что и прошлый. Аудитория заметно отличалась от предыдущей. Хотя класс относился к гуманитарному направлению, с самого начала не было заметно никакого интереса к обсуждению исторического содержания. По меткому наблюдению О. А. Шиян, причина может заключаться в некорректном использовании термина «гуманитарный класс»; если в математический класс идут школьники с достаточно хорошо развитым и структурированным мышлением и интересом к предмету, то в гуманитарный часто просто те, кто плохо разбираются в математике; при этом особых «гуманитарных» заслуг (знания нескольких языков или интереса к ним; обильного чтения сложных художественных текстов вне школьной программы или научных текстов по истории или философии) у них нет.
Учитель предложил детям гипотетическую игровую ситуацию: представим, что сейчас время Бориса Годунова и в стране объявлены выборы царя. На трон претендуют сам Борис Годунов, Дмитрий Самозванец, Василий Шуйский и сын польского короля Владислава. Сама задача показалась детям странной; обсуждать историю в предположительном ключе было непривычно и, мало того, казалось внеисторичным. После разговора о том, «знает ли история сослагательное наклонение» и зачем изучать то, что прошло и уже точно никогда не повторится, дети (некоторые) поняли, что само предположение о единственности исторического пути в любой момент делает бессмысленной историю, как науку, так как приводит к восприятию всех событий как единичных; если же история направлена на поиск закономерностей (в том числе и вследствие проявления конкретной человеческой воли), которые выясняются в ходе обсуждения вариантов развития событий, то она становится важной и для нас.
После хаотического выкрикивания своих кандидатур было проведено голосование, на котором по два голоса получили Дмитрий Самозванец и Владислав, остальные голоса отошли к Борису Годунову. Единственным прозвучавшим обоснованием выбора царя Бориса было следующее: «Ну, он же и так правит – пусть правит и дальше». Выбравшие других кандидатов предъявили обоснования содержательные.
На этом этапе возник разговор, а почему надо подчиняться (и надо ли) выбранному правителю. Педагог спросил поочерёдно: «А почему вы подчиняетесь родителям? А почему солдат подчиняется офицеру? А почему вы выполняете указания учителя?», после чего произошло обсуждение критериев законности власти.
Так как один из учеников сказал, что задачу решить трудно, так как «время было смутное», педагог спросил перед перерывом: «А сейчас в России Смутное время или нет? А в какой период Российской истории время было не Смутное?» Если бы данные занятия имели продолжение, то именно этот вопрос и обсуждался бы на следующем занятии.
4. Советы себе и другим педагогам диалектического обучения
Главным выводом, который можно сделать по результатам работы по созданию задач для развития творческого, диалектического мышления на материале учебных предметов в начальной и основной школе, является следующий: при достаточной успешности, достигаемой в процессе проектирования нового содержания, невозможно достижение развивающих целей, если не изменить взаимодействие учеников и учителя на уроке. В основе исследования лежала идея о возможности предоставления практическим педагогам механизма создания развивающих детское мышление задач на материале любого учебника и учебного пособия в рамках любой утверждённой в школе программы. Это позволило бы педагогу, оставаясь в рамках принятой системы отношений и классно-урочной системы, добиваться нового результата. Теперь встаёт задача, как, опять-таки оставаясь в пространстве классно-урочной системы, глобального изменения которой в ближайшем будущем не предвидится, переформатировать общение с учениками и между учениками, чтобы это не вызывало отторжения у участников образовательного процесса и внешних наблюдателей и позволяло достичь явного развития диалектического мышления школьников.
Мы хотели бы сформулировать несколько советов для тех, кто будет проектировать диалектические учебные задачи на материале своего учебного предмета для развития творческого, продуктивного мышления обучающихся, развития их индивидуальности и самостоятельности.
Существует ряд диалектических задач, в которых однозначно задано действие, которое требуется применить. Чаще такие задачи встречаются в материалах для дошкольников («что противоположно? что наоборот? что может быть одновременно и одним и противоположным ему?»), но и для более старшего возраста они тоже применяются (в задаче «Куда нужно лететь, чтобы быстрее попасть из Лондона в Анадырь?» провоцируется конкретное диалектическое мыслительное действие превращение). Но уже в предложенной на модельном уроке №2 задаче («Законный или незаконный царь Борис Годунов (и другие)?») ситуация усложняется. С одной стороны, задача сформулирована, как формальнологическая: надо выбрать одну из двух противоположностей. Но так как для детей изначально царь Борис воспринимается как законно избранный и венчанный на царство, то практически сразу начинается расшатывание формальнологической схемы, и задача становится задачей на диалектическое превращение. Так же и в отношении Дмитрия Самозванца, который изначально воспринимается как незаконный, но после обсуждения принципов признания законности опять-таки ситуация усложняется. Но в реальности действие превращения не помогает решить задачу: как только ученики увлекаются противоположной версией, они тут же сталкиваются с внятными обоснованиями противоположной. И с добавлением каждого нового претендента на престол (Василий Шуйский, Владислав, Лжедмитрий Второй, а потом и Иван Грозный) ситуация всё более перестаёт быть простой, биполярной. С необходимостью возникает действие опосредствование или же (в случае динамического рассмотрения ситуации) действие обращения или замыкания. Возникает вопрос: что будет считаться решением задачи? Однозначный ответ на вопрос (не всеобщий, а для каждого индивидуально, так как мышление происходит в человеке, а всё происходящее вокруг – лишь средства его активизации и развития)? Скорее, ответом будет обнаружение самими детьми в дискуссии новых оснований для вынесения решения; в этом случае, действительно, ни одна диалектическая задача не может претендовать на однозначное применение для своего решения единственного диалектического мыслительного действия. При этом есть некое противоречие: с одной стороны, решение любой задачи возможно путём применения разных диалектических мыслительных действий, с другой, всегда необходимо выделить базовые противоположности в исследуемом объекте, то есть совершить действие объединение. Если в задаче изначально не явлена структура (то есть внешне она представляет собой обычный вопрос), то в этом случае, действительно, анализ будет начинаться именно с постулирования противоположностей; либо же решающий задачу сформулирует вторую противоположность по ходу решения, но только с этих пор задачу можно будет считать действительно диалектической. То есть подобная задача с изначально не заданными противоположностями становится диалектической тогда, когда для её решения начинает применяться диалектическое мышление.
В процессе установления противоположностей существуют две трудности. Первая: множественность качеств, существующих в реальном объекте. Вторая заключается в определении самих противоположностей. Противоположности должны, во-первых, располагаться на краях некоего континуума, задавая тем самым всё пространство возможных опосредствований; при этом данный континуум может быть включён в другой, более обширный. Во-вторых, противоположности должны быть выделены по одному основанию; при этом основание должно относиться именно к ним и не охватывать другие возможные элементы (так «синее» не является противоположностью «коричневому» на основании того, что «коричневое» – это «не синее», так как «не-синим» является не именно «коричневое», а вся совокупность других объектов, помимо самого «синего»). В-третьих, противоположности должны отрицать друг друга, быть несовместимыми с точки зрения логики; они не могут истинно описывать одну и ту же реальность в одно и то же время (поэтому «зелёный» и «варёный» не опосредствуются в понятии «горох», так как изначально могут совместно относиться к одному объекту). Отсюда четвёртое уточнение: противоположности должны иметь отношение ко всему объекту и не относиться друг к другу, как часть к части или как часть к целому. Также важно осознавать объективный характер противоположностей не только как характеристик реальности, но как движущих механизмов человеческого мышления и сознания: любое обращение к ситуации производит выделение её из временного ряда, отличая от прошлого и будущего; любое выделение объекта в поле внимания производит разделение на важное и неважное; вернее, это выделение есть следствие отнесение объекта к категории важных и выведение его из категории неважных.
При решении задачи о Смутном времени центральный конфликт оказался не в поле изначально заданных на предыдущих уроках условий. Для школьников (модельный урок №2) неожиданным оказалось само то, что вообще обсуждается проблема законности правления, так как отношение к историческим событиям у них было как к законченным, «ставшим», завершённым. Выход же на противоречие законности и справедливости оказался потрясением (то, что получение власти по существующим законам может быть несправедливым; то, что получение власти с нарушением или вообще отрицанием существующих законов может быть справедливым; наконец, то, что абсолютно законная по меркам своего времени власть может стать незаконной, если будет отрицать самой же установленные законы). Проблема объективности законов и несовместимости с ней идеи абсолютной, неограниченной власти, которая в силу этого становится незаконной в принципе, возникла в ходе обсуждения; мало того, этот ход не был запланирован проектировщиком урока; новый «центральный конфликт» всплыл неожиданно в результате проблематизации, казалось бы, абсолютной законности избрания Михаила Романова (а если предыдущий правитель был законным? а права родственников четырёх предшествующих династий?); следом за ней был предъявлен крайний случай: обсуждение законности правления предпоследнего Рюриковича, родословная которого прослеживалась до первых варяжских князей. Но нельзя сказать, что школьники искали оппозиции осознанно; как нельзя сделать вывод о развитии у них диалектического мышления.
Понимать, что старший школьный возраст не является оптимальным для построения целостных программ развития диалектического мышления. Вообще, проблема эффективности развития диалектического мышления в разных возрастах изучена ещё недостаточно. Можно уверенно сказать, что развитие диалектического мышления у дошкольников высоко продуктивно, так как оперирование противоположностями является для них естественным, потому что базируется на отсутствии чувствительности к противоречию. Уже в младшем школьном возрасте всё не так однозначно. В младшем школьном возрасте (при хороших условиях) в ходе овладения учебной деятельностью как ведущей формируется учебная потребность и происходит становление теоретического мышления (анализа, планирования, рефлексии). Но теоретическое мышление может вступать в противоречивые отношения с диалектическим; если формируемые понятия базируются на формальнологической основе, то при всей полезности и необходимости теоретического мышления, оно становится стопором для творчества и создания нового. Если диалектическое мышление помогает активизации формальнологического, то в обратную сторону этот механизм не работает. Пожертвовать развитием теоретического мышления нельзя, ибо в более позднем возрасте будут упущены возможности начальной школы, когда ребёнок был открыт к новому содержанию. Подростковый и старший школьный возраст, похоже, ещё менее пригодны для целенаправленного и целостного развития диалектического мышления. Новые появившиеся потребности (связанные с полоролевой успешностью) и новые социально поощряемые цели (связанные с профессиональным самоопределением, нацеленным на перспективу), наслаивающиеся на уже сложившееся отношение к миру как закономерному и однозначному, вызывают максимальное сопротивление школьника при решении задач с неизвестным результатом и неочевидной полезностью. Казалось бы, внешние и внутренние изменения подросткового возраста могли бы быть продуктивной почвой для погружения в развивающееся, изменчивое содержание; но у подростка уходит много сил на эту перестройку самого себя и всей системы взаимоотношений, что требует очень аккуратного, хорошо просчитанного предложения дополнительного лабильного содержания, чтобы не увеличить возрастную невротизацию. А вот перемещение в новую ситуацию обучения в высшем учебном заведении опять создаёт благоприятную развивающую ситуацию для диалектического мышления. Молодой человек готов к тому, что новая форма обучения будет отличаться от школьной; множественность предлагаемых по одной учебной дисциплине учебников, излагающих разные концепции, является видимым знаком новизны ситуации. Поэтому именно в этом возрасте (или в этой новой социальной ситуации) логично предлагать программы развития творческого, продуктивного, диалектического мышления, что и нашло отражение в разрабатываемой в рамках структурно-диалектического подхода технологии позиционного обучения. На позиционных семинарах малые группы анализируют текст с заранее заданных содержательных позиций (понятие, схема, тезис, оппозиция, апология, символ, практика, здравый смысл и т.п.); а на общем обсуждении организуется взаимопроникновение позиций, взаимообогащение.
Когда идеи структурно-диалектического подхода стали применяться в процессе обучения и была разработана технология позиционного обучения студентов (позже применяемая в экспериментальном режиме и в средней школе), возник вопрос: насколько возможно развитие диалектического мышления (а, значит, и выстраивание методически проработанного пространства) при работе с формальнологическим содержанием. На позиционных семинарах участникам предъявлялись тексты (лекция, отрывок монографии, статья), которые требовалось понять, так как их реальный смысл не был предъявлен напрямую: это могли быть тексты, в которых описывались взгляды учёных, с которыми соглашался или не соглашался автор текста; это были тексты, в которых вводилось новое научное понятие (при этом могло использоваться уже существующее в языке слово, которое насыщалось новым смыслом); могли предъявляться тексты, описываемое в которых явно расходилось с опытом обучающихся и т. п. Вся работа велась, во-первых, с текстами научными, во-вторых, относящимися к психологии (то есть гуманитарной направленности). Именно поэтому оставалось дискуссионным: 1) можно ли разворачивать позиционный анализ вокруг не научного текста: например, главы учебника или некритично написанной монографии, сомнительной с точки зрения предъявления доказательств результатов и выводов; 2) можно ли разворачивать позиционный анализ вокруг текста из области точных или естественных наук (в котором выводится математическая формула, описываются экспериментальные процедуры обнаружения явления и т.п.). В пилотной режиме в школе были проведены серии занятий, в которых производилось обсуждение не научных текстов (учитывая возраст школьников); диалектическое обучение в виде позиционного анализа на уроках математики, физики или химии не апробировалось. И в этом отношении важно понять, возможно ли позиционное или иное диалектическое обучение и при построении занятий на основе содержания, в котором все взаимосвязи явлены, одно вытекает из другого, логика следует закону непротиворечия.
На обсуждаемых модельных уроках хорошо проявилась продуктивность способа работы, при котором, чтобы понять явление, нужно было сделать выбор и отнести его к одному из противоположных классов А или не-А (например, описание структуры персонажей на модельном уроке №1, соотнося их с понятием «любовь»). Но это были уроки по гуманитарному предмету. Если в химии металлы и неметаллы имеют чётко оговорённые свойства, а в математике простые числа отличаются по однозначным признакам, то задание такого типа становится, быть может, непродуктивным, формальным, даже неуместным, так как однозначный правильный ответ подразумевается сам собой. Остаётся вопрос: является ли подобное содержание основным в математике, физике или же можно обнаружить много тем, где возможно применение позиционного анализа как технологии диалектического обучения. В дошкольном возрасте все эти свойства «открываются» детьми, поэтому различий между химией для дошкольника и философией для дошкольника нет. С возрастанием знаний всё больше становится схем, формул, правил, которые можно напрямую применять для оценки содержания, ответов на вопросы, формулировок выводов. Если темы касаются открытия каких-либо явлений, когда изучаемое содержит либо дискуссию между оппонентами, либо внутреннюю дискуссию, в которой преодолеваются стереотипы и «сопротивление материала», позиционный анализ возможен. Но это же содержание научно-историческое – по сути, гуманитарное. Тогда пространство развития диалектического мышления в том же старшем школьном возрасте ещё больше сужается.
В процессе сравнения двух анализируемых уроков по истории, построенных на материале одного параграфа, можно обнаружить варианты проблемной ситуации. Второй урок отличался от первого тем, что требовалось совершить действие; при этом не важно, что действие разворачивалось не в реальных исторических условиях Смутного времени; это всё равно было социальное действие, совершаемое перед всеми; внутренний выбор (определение кандидата, как достойного моего голоса или недостойного) также был реальным, так как обнаруживал личное отношение к событиям. Такой вариант проблемной ситуации привносит в решение задачи личностный смысл; вернее, в процессе решения как раз личностный смысл и формируется. На уроке, как мы отмечали, присутствовали учителя из разных классов гимназии – участники семинара; когда единственным сформулированным и высказанным вслух основанием голосования за царя Бориса Годунова оказалось то, что он уже царь, так пусть им и будет, кинетическая реакция учителей была заметна сразу. Но и школьники (в том числе и тот, который произнёс формулировку) мгновенно ощутили странность происходящего; возникла пауза и смущение, и из этой неловкой ситуации попытки выхода были явственны: школьники попробовали перевести разговор на другое, а не завершить обсуждение, так как голосование же уже прошло.
Для педагогов возникшая пауза часто является трудным местом урока: раз дети молчат, значит, им нечего сказать; раз педагог молчит, значит, он плохо подготовился; в паузе теряется динамика урока, дети начинают отвлекаться. При этом в любой другой деятельности изменение динамики, чередование активности и пассивности является как раз способом увеличения напряжения (в театральной постановке, построении симфонии или футбольном матче). Пауза не просто даёт возможность отдохнуть – в ней вызревает новый выброс энергии. Поэтому пауза на уроке в виде чтения параграфа или решения задачи по изученной формуле после бурного обсуждения не является паузой в описанном смысле. А пауза, в которой разворачивается напряжённая мыслительная деятельность, минута тишины для того, чтобы подумать, молчание, которое является свидетельством кризиса в решении задачи, – такая пауза становится продуктивной; её возникновение в процессе урока – «лакмусовая бумажка» того, что процесс мышления идёт, так как он всегда переосмысление старого опыта, отказ от него и обнаружение нового, того, что раньше казалось бы странным и неправильным.
Ещё раз остановимся на вопросе, насколько выделение противоположностей является объективным. Если странность и непривычность объекта являются следствием несоответствия ожиданиям, то не является ли этот процесс всего лишь субъективным восприятием мира; а тогда и сами противоположности становятся эфемерными допущениями, и их опосредствования не могут служить реальному разрешению сложной ситуации. Но, во-первых, непривычность и странность – лишь маркеры ситуации, в которой надо ещё только обнаруживать противоположности; само непривычное ещё не есть то содержание, которое потом будет подвергаться опосредствованию, замыканию или отождествлению. В этом странном и непривычном нужно будет выявить скрытые существенные стороны, и они являются существенными только в том случае, если мы относимся к нашему прежнему опыту (который сейчас подвергается сомнению, «остранняется»), как к объективному, неслучайному, как к опыту реального видения существенных отношений. Если наш опыт хаотичен и субъективен, то как раз в этом случае не возникнет ничего непредвиденного или странного: все элементы равны, всё возможно. И это не приводит к восприятию уникальности мира; наоборот: любой элемент становится взаимозаменяемым, то есть несущественным, теряет свою привлекательность.
Одним из свойств развитой, самоактуализированной и самоактуализирующейся личности является свежесть восприятия окружающего мира. Здоровый человек не относится даже к постоянно повторяющимся событиям, как к привычным, обыденным; он может как радоваться каждодневно происходящим явлениям (эта радость не обязательно должна бурно выражаться; речь идёт о внутреннем состоянии), так и наслаждаться физическим здоровьем, дружбой, политической свободой как процессами, наличие которых не гарантированно не только другим, но и в его собственной жизни. Такое свойство характерно для детей; и оно, как и другие характеристики, связанные с творческой реализацией, исчезает в процессе взросления. Это происходит, в первую очередь, вследствие погружения в систему целостного обучения, в которой мир предстаёт как изученный, законченный, открытый, а не изучаемый, открываемый. Научные открытия уже есть явления прошлого; и новые технические ил научные достижения предстают перед детьми уже в виде результатов (а сама длительная и сложная деятельность по их созданию или обнаружению остаётся скрытой). Аналогичная ситуация и в отношении обилия технических новинок: например, средства записи звука и размещение его на носителях за последние сорок лет сменились минимум шесть раз; период мгновенного фотографирования на аппаратах системы «Полароид» уже неизвестен детям, хотя родители им активно пользовались. Отсюда возникает ощущение того, что все эти изменения закономерны (что справедливо) и происходят как бы само собой; ребёнок не понимает бабушку, которая удивляется, как он, трёхлетний, пользуется пультом дистанционного управления, не говоря уже о системах, в которых появление содержания обусловлено проведением пальца по экрану. В этом логичном и необходимом процессе начинает теряться то важное для развития человека и его дальнейшей жизни чувство удивления при взаимодействии с внешним миром. А именно развитие диалектического мышления, существенным следствием которого является нацеленность на поиск нового и его создание, помогает сохранению данного качества. В этом есть некоторый парадокс: чем больше ты сталкиваешься с процессом создания нового, тем больше оно воспринимается как выходящее за пределы обыденности, привычного порядка вещей.
Darmowy fragment się skończył.