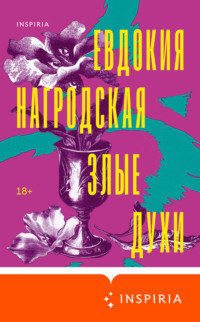Czytaj książkę: «Злые духи»
* * *
© Оформление, издание на русском языке. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Феномен Евдокии Нагродской
Евдокия Аполлоновна Нагродская (1866–1930), дочь гражданской жены Н.А. Некрасова Авдотьи Панаевой, той, которой он посвятил известное стихотворение «Мы с тобой бестолковые люди…» и которая сама была писательницей, создательницей и беллетристических произведений, и интереснейших «Воспоминаний». Но рождена девочка была в законном браке. Отцом ее стал секретарь журнала «Современник» А. Головачев, за которого, можно сказать, выдал Авдотью Панаеву сам поэт после десятка лет взаимных терзаний.
Сама Евдокия Нагродская (ее муж – известный масон, профессор Института путей сообщения Владимир Адольфович Нагродский) создала один из первых бестселлеров в русской литературе начала ХХ века – роман «Гнев Диониса» (1910). Только до революции он переиздавался около 10 раз, был переведен на несколько языков. До этого она тоже печаталась, но ее «романы с продолжением» – «Мертвая петля», «Черное дело» и др. – публиковались в газетных подвалах и терялись среди низкосортной литературной продукции. Слава ее началась только с «Гнева Диониса». Здесь она попала в точку: в центре романа оказалась «расшифровка» теории австрийского философа Отто Вейнингера о существовании женственных мужчин и мужественных женщин, которую она и поддержала, и опровергла. В романе она затронула и такие острые темы, как необходимость самореализации женщины в общественной и частной жизни, трагичность попыток женщины гармонически соединить биологическое, природное с творческим потенциалом, тяготение друг к другу людей одного пола, всевластие красоты и т. п. Нагродская создала образ «новой женщины», художницы Татьяны, свободной от условностей ветшающей морали, которой, однако, удалось сохранить главные гуманистические ценности, выработанные обществом на протяжении веков: жажду любви и ответственность материнства. Также в «Гневе Диониса» преломилась чрезвычайно значимая для модернистской литературы тех лет проблема дионисийского и аполлонического начал, правда, поданная в несколько ироническом ключе.
Все это сделало роман безмерно популярным и обсуждаемым. По нему была даже сделана инсценировка (авторы – внук Е.А. Баратынского Е.Ю. Геркен и А. Смирнов). Следует признать, что роман действительно легко мог быть инсценирован, поскольку герои – Татьяна, ее муж Илья, ее возлюбленный Старк, резонер Латчинов – обладали яркой речевой характеристикой, запоминались с первого появления на страницах. Эти качества были присущи и героям ее последующих произведений – романов «У бронзовой двери» (1911), «Борьба микробов» (1913), «Белая колоннада» (1914), «Злые духи» (1915).
Однако традиционный подход к создаваемому женщиной не позволил критике уловить своеобразие и незаурядную одаренность писательницы. Критики пошли по проторенному пути: раз женщина, значит – «дамское рукоделие», раз популярна – значит, «бульварная беллетристика», раз пишет о взаимоотношениях мужчины и женщины – значит, последовательница и пропагандистка феминистских идей. Постоянным рефреном критических работ было сравнение ее творчества с творчеством «королевы бульвара» Анастасии Вербицкой, что удивляло Нагродскую, так как она с самого начала нацелилась на развенчание тех стереотипов, которые бытуют в обществе, тех мифов, которые принимаются без тени сомнения, тех сакральных представлений, которые кажутся незыблемыми. Кроме того, одной из отличающих ее черт была всепроникающая ирония, которая не позволяла ей возвеличивать своих героев и героинь. Нагродская предлагала посмотреть на них как бы чуть «со стороны», увидеть слабые стороны, расхождение между словом и делом. Она часто выворачивала наизнанку привычный мелодраматический сюжет. И тогда он представал в комическом освещении… Но критикам трудно было предположить, что женщина обладает комическим даром и что отнюдь не все, написанное ею, надо воспринимать буквально.
Также не уловили критики и масонской составляющей творчества Нагродской, которая наиболее ощутимо сказалась в романе «Белая колоннада» (1914), отметившем начало приобщения писательницы к масонству, в котором она выделяла в первую очередь гуманистическое содержание, возможность для человека ощутить свою самостоятельность, неподверженность расхожим установкам и правилам (что очень значимо для женщины), духовное возвышение. Впоследствии, когда она уехала в 1920 году в эмиграцию, масонство стало важнейшей частью ее деятельности (там она сначала была посвящена в ложу международного масонского ордена «Друа камен», а в 1927-м становится фактической руководительницей – венераблем – русской женской ложи «Аврора»).
Мы кратко охарактеризуем основные произведения Евдокии Нагродской, поскольку, напечатанные в начале ХХ века и в эмиграции, почти все они остаются пока недоступными читателю.
Еще до своего отъезда за границу она стала автором своеобразного продолжения «Гнева Диониса» – романа «У бронзовой двери», который в силу остроты поднятой проблематики не решилась публиковать в России полностью (в целостном виде он существует только в переводе на немецкий язык). Однако если в «Гневе Диониса» она призывала человека прислушаться к своей потаенной сущности, перестать бояться самых, на первый взгляд, «неправильных» интимных переживаний, то в этом романе она обнажила оборотную сторону полного чувственного раскрепощения, показав опасность «дионисийской страсти», которая разрушает личность, превращает человека в безумца. Тот же самый смысл имеет и ее рассказ «Кошмар».
«Иллюстрацией» ницшеанской «воли к власти» стал роман «Злые духи» (1915), где художница отказалась от воспевания красоты как неотъемлемой части дионисийского культа, показав беззащитность изначально креативных идей Ницше перед искажением их безнравственными и алчными людьми, о чем свидетельствует поставленная в центр повествования фигура злодея, что, в свою очередь, указывает на использование Нагродской готической литературной традиции в ее «женском изводе». А вот «излечить» от порочной составляющей и преобразовать дионисийскую любовь в святой и духовный союз двоих, по ее убеждению, под силу масонству. Носительницей масонских идеалов становится героиня ее повести «Житие Олимпиады-девы» (1918). «Масонские произведения» писательницы могут быть причислены к жанру «идеологического романа», который она успешно реализовала в «Борьбе микробов» (1913). Но что делает прозу Нагродской поистине увлекательной – так это авантюрные элементы, что позволило ей донести до читателя масонские идеи в доходчивой форме.
В центре авантюрных произведений Нагродской оказывается человек, который идет на сделку с совестью, чтобы подняться со «дна», разбогатеть и проникнуть в высшие сферы. Но если в ранней прозе писательница верит в силу христианского нравственного начала, которое выступает как альтернатива проискам авантюристов и даже может помочь им избежать духовной гибели, то в масонском романе «Белая колоннада» этическая проблематика подана в форме концепции преображения мира, воплощенной в античных образах. Слияние с античными символами идей масонства рождает синтетический литературный жанр, позволяющий образно воплотить различные философские и социально-политические учения.
Особое место в наследии Нагродской занимает малая проза, отразившая ее полемику с символистскими установками. В ней отчетливо прозвучала ее собственная художественная программа. В рассказах «Смешная история», «День и ночь», «Романическое приключение», «Чистая любовь», «Роковая могила», «Похороны» писательница высмеивает радикальные феминистские воззрения, обыгрывает привычные женские и мужские гендерные роли, дионисийский культ и сюжетные коллизии символистской прозы. В них с помощью стилизации и фантастики травестируются мифы и традиционные представления о тех ролях, которые общество уготовило мужчине и женщине.
Той же цели служит и жанровое разнообразие ее малой прозы: Нагродская обращается к жанру бытового рассказа и «страшной новеллы», восходящей к готической литературной традиции, а также использует формы авантюрной и фантастической новелл, наполненных «бытовой мистикой» и фантасмагорическими образами. Кроме того, элементы фантастики позволяют художнице «впрямую» столкнуть обыденный и воображаемый миры, где торжествуют мистические зловещие силы, вмешивающиеся в судьбы центральных персонажей, влияющие на их поведение и ход событий всего произведения. У нее сны становятся единственным убежищем для хрупких душ, не имеющих сил приспособиться к обыденной жизни. Люди уходят в сны, начинают творить свой особый причудливый мир, и это «сновидческое» творчество оказывается для них своего рода спасением.
Казалось бы, трудно говорить о ее влиянии на современную и последующую литературу. Но оно было! В наследии Нагродской существует два текста, которые могли быть знакомы М.А. Булгакову. Относительно первого – новеллы «Он» – не может быть почти никаких сомнений. Новелла была издана в 1911 г., когда имя Нагродской уже гремело по всей России. И думается, что студент медицинского факультета, явно знакомый со спорами вокруг философии О. Вейнингера и с набирающими силу феминистскими теориями, не прошел мимо ее нового рассказа. Чуткого к несправедливости Булгакова мог задеть и издевательский пересказ сюжета новеллы в одной из статей: «<..> некая Леночка долгое время встречается на улицах с красавцем мужчиной, потом постоянно видит его во сне, перед ее умственным взором „плавают его светло-зеленые глаза“, и кончает тем, что попадает в сумасшедший дом. Но красавец мужчина, оказавшийся при более близком рассмотрении – чур нас! чур нас! – нечистой силой, избавляет Леночку из заточения и увозит ее в Сорренто, откуда они собираются властвовать над миром». Заключил свой «анализ» критик следующим пассажем: «Как видите, рассказ долженствовал быть фантастическим. Но фантастики никакой не получилось», а в итоге «получился „очень прогрессивный инкуб“»1. Могли до него дойти и слухи о «нехорошей» квартире в Петербурге, где вертят столы, проводят спиритические сеансы и т. п. А именно этим прославился салон Нагродской в середине десятых годов. Во всяком случае нельзя не отметить некоторых поразительных совпадений, которые явно обнаруживаются между новеллой «Он» и «Мастером и Маргаритой» (напомним, что замысел книги о Дьяволе у Булгакова возник не раньше 1911 года).
Рассказ Нагродской представляет собой записки, которые были найдены в бумагах застрелившегося доктора. Как становится ясно из дальнейшего, доктор убивает себя, желая избавиться от, как ему кажется, наваждения, возникающего у него под влиянием откровений бывшей пациентки, уговаривающей его получить власть над миром, подчинившись повелителю, который уже овладел волей этой женщины. Она убеждает его, что он станет великим целителем, если согласится быть слугой Господина, который передаст ему часть своего волшебного дара. Т. е. речь идет о вступлении в сделку с Дьяволом ради спасения человечества.
Как помним, условием договора Маргариты и Воланда является спасение Мастера. Но если это можно считать «общим местом» при общении потусторонней силы со смертными, то обстоятельства самой встречи разительно схожи. Встреча с Ним в новелле Нагродской происходит на многолюдной улице Петербурга, однако Он оказывается единственным находящимся на ней вместе с Еленой. Но ведь и у Булгакова в аллее при появлении Воланда «не оказалось ни одного человека». Аналогична и ординарность внешности встреченных героями персонажей: Елена запомнила только зеленые глаза, черные брови, отсутствие бороды и усов и изысканность одежды незнакомца. О Воланде тоже известно лишь то, что у него «правый глаз черный, левый <..> зеленый, брови черные» да фрак дивного покроя… И при этом каждый из них появляется первоначально или в «дымке морозного дня», как у Нагродской, или из сгустившегося «знойного воздуха», как у Булгакова. Во всяком случае обе появившиеся фигуры практически не видны окружающим. Поэтому остальные думают, что «увидевшие» сошли с ума. В результате они оказываются в психиатрических лечебницах, где Елене советуют прекратить «усиленные занятия», а Ивану Бездомному советуют «не напрягать мозг».
Сходна и ситуация с мнимым сумасшествием. Елене приходится, чтобы получить свободу, притворяться, что лечение ей помогло. Иван тоже соглашается с доводами профессора Стравинского, что он отныне нормален, да и окружающие вынуждены признать, что в нем «решительно никакого безумия». Есть и еще один общий момент: Елена и Иван берутся делать записи по просьбе докторов. И по вопросу раздвоения у них обнаруживается общее: Ивану «старому» и Ивану «новому» отвечает некий бас, похожий на бас консультанта, а сиделка слышит, как Елена разговаривает на «два голоса» (второй голос принадлежит ее посетителю).
В новелле Нагродской есть еще один важный герой – брат Елены Константин. Он воплощает поначалу абсолютную здравость и неверие в потусторонние силы, но в результате происходящего оказывается на грани сумасшествия. И только великодушие являвшегося к сестре Духа спасает его от окончательного погружения в безумие. Воланд, как мы помним, тоже проявляет снисходительность к Ивану Бездомному.
Казалось бы, различаются отношения Маргариты и Воланда и Елены и Духа. Последние вступают в эротическую связь. Но стоит напомнить, что в начале романа Маргарита почти уверена, что Азазелло приглашает ее к иностранцу с вполне определенной целью. И защищает ее только любовь к Мастеру, причем в обоих произведениях любовь имеет исступленный характер, доведена до предела. Елена умоляет Его: «Приди! О, приди!» А у Булгакова она – «убийца», «молния», «финский нож». Обе женщины мучимы ею и в какой-то момент желали бы от нее освободиться. Дух требует от Елены полной покорности, обещая за это, сделав ее своею супругой, дать ей знание и силу, которые она сможет употребить во благо. Маргарита, делаясь повелительницей на балу у Воланда, одновременно сгибается под тяжестью надетого на шею медальона, но и получает возможность спасти Мастера. Любое ослушание Елены жестоко наказывается. Добровольно-принудительный характер связи с нечистой силой явно имеет место и там, и здесь.
Оба писателя намеренно стирают границу между сном и явью, но поразительно сходство обстановки в снах героинь. Елена оказывается «в какой-то комнате, низкой, темной, освещенной оплывшим огарком, с убогой мебелью и жесткой широкой кроватью, покрытой каким-то тряпьем». Маргарита также во сне видит «широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями». И переход из иллюзорного мира в реальный в обоих случаях сопровождается катаклизмами: вокруг Елены все с грохотом рушится, колонны рассыпаются перед Маргаритой.
Итак, мы можем убедиться, что философский подтекст прозы Нагродской вполне мог быть уловлен Булгаковым. Но, конечно, усложнен и развит.
Связь женщины с Дьяволом Нагродская продолжала «изучать» и далее, но уже воспользовавшись «наработками» немого кинематографа. И при создании «художественной кинодрамы» «Ведьма» она использовала все те клише, которые пользовались сверхпопулярностью в массовом искусстве: сверхъестественная сила, колдовство, дьявол, роковые случайности. Нагродская верно угадала связь кинематографа с массовой литературой и блестяще продемонстрировала, что знает законы массовой беллетристики.
По сравнению с рассказом «Он», где есть сложное переплетение судеб, взаимоотношения героев непросты и запутанны, где рассматривается идея власти над миром, об обладании которой мечтают женщины, веками ее лишенные, где ставится вопрос о шаткой грани между безумием и нормальностью, решить который не берется ни автор, ни ее персонажи, в «Ведьме» все упрощено до предела. И если в рассказе «Он» есть ироничное подшучивание над возможностями науки, порывающейся познать неведомое и непознаваемое, но неспособной осуществить это по-настоящему, то здесь прямо указывается, что в «реальность» происков дьявола может поверить только безумец, а за Дьявола и ведьм себя могут выдавать разные мошенники. Вообще, можно сказать, Нагродскую очень интересовал образ авантюриста. И это отвечало реалиям ХХ века.
Суть разыгрываемого в «Ведьме» действа такова: во время проводимых на уединенной даче опытов перед изумленной компанией мужчин появляется ослепительная женщина, уверяющая их, что в ее появлении нет ничего особенного: мотор ее автомобиля заглох, и она решила просить о помощи! Все трое незамедлительно влюбляются в прелестную незнакомку, которая оказывается актрисой, носящей звучное имя Нея Рей, а по совместительству интриганкой, ссорящей мужчин между собой с большой выгодой для себя. В итоге один из них разоряется и кончает жизнь самоубийством, другой оказывается под следствием, а третий опускается на самое дно и понемногу сходит с ума… И вот в его-то голове и рождается ужасающий план: сжечь «ведьму», принесшую столько зла людям. Он заманивает Нею Рей на ту же самую дачу, где они впервые с нею встретились, и там, воспользовавшись ее доверчивостью, сыграв на женской жажде поклонения, привязывает ее к колонне и поджигает…
Казалось бы, с большим трудом можно извлечь из всей этой абракадабры и нагромождения нелепостей какой-либо смысл. Однако можно предположить, что автор хотела сказать, что наказание, избираемое мужчинами, не соответствует проступкам женщин и что мужчины готовы использовать самые жуткие способы мщения. Но все же героиня является бессердечной авантюристкой, приводящей ничего не подозревающих людей к гибели. А не есть ли результат ее поведения способом отомстить тем, кто, возможно, до этого унижал и обманывал ее? Как видим, даже в однозначно авантюрно-мелодраматическом сюжете Нагродской можно уловить неоднозначные решения.
«Дьяволиада» Нагродской имела продолжение и в эмиграции, где была издана на французском языке ее пьеса «Дама и дьявол». В ней розенкрейцеровская легенда (так пьеса именуется в подзаголовке) представала как перелицованная легенда о Фаусте, где подлинный Фауст (муж героини), вызвавший в результате проводимых опытов к жизни Дьявола, пасует перед ним. Зато его жена, бесстрашная женщина, не только отвергает любые предложения Князя мира сего, но и выходит победительницей из поединка с силами зла. Разработка характера Клотильды позволяет говорить о ней как о женщине, обладающей чувством собственного достоинства и самообладанием.
Можно без сомнения утверждать, что творчество Нагродской, внешне пребывая в сфере массовой развлекательной литературы, на самом деле обладает философской значимостью и художественною убедительностью. Произведения писательницы способны обогатить представление о многообразии литературного процесса первой трети ХХ столетия. Нагродская, свободно ориентируясь в идейно-художественных исканиях Серебряного века (дружба с Мих. Кузминым не прошла для нее даром – отсюда умение стилизовать эпохи!), смогла ярко и оригинально отразить волнующие русское общество проблемы. К тому же в эмиграции она предприняла попытку создать масштабное историческое полотно – роман-эпопею «Река времен», рисующий идейную атмосферу XVIII в. И некоторые критики даже осмелились сопоставить его с «Войной и миром» Л.Н. Толстого.
Мария Михайлова
Злые духи
Посвящается Татьяне Генриховне Краснопольской
Версальский парк. Осенний день. Солнца нет, но воздух прозрачен, и ясны дали.
Сквозь облачную дымку на небе видны словно тихие золотисто-палевые озера.
Парк расцвечен в осенние красно-желтые цвета.
Сереют статуи фонтанов над белыми прудами, причудливо подстриженные тисы кажутся совсем черными.
Алексей Петрович Ремин сидит на скамейке у пруда.
Будний день, и народу в парке очень мало.
В прозрачном воздухе с необыкновенной четкостью выступают все контуры и детали – делается понятна старая гравюра.
«Какими глазами и как взглянуть на окружающее, – думает Алексей Петрович, – дальнозорок или близорук художник… Что лучше для художника? Не близоруки ли те, которые пишут мазками, едва намечая контуры? А дальнозоркие выписывают мелочи. Вкусы и манера письма меняются или стало больше близоруких?»
Эта мысль заняла его, и он стал внимательно вглядываться, то снимая, то надевая pince-nez, в картину широкой лестницы, над которой поднимался величественный фасад дворца.
Из главного входа на площадку высыпала группа туристов с бедекерами и кодаками, очевидно окончившая осмотр жилища французских королей.
Ремин и их стал рассматривать, как до сих пор рассматривал карнизы, пилястры и переплеты рам на фасаде дворца.
Одна пара особенно привлекла его внимание.
Дама была очень элегантно одета, в синий костюм тальер, из-под короткой юбки которого виднелись изящно обутые ножки.
Ее белокурую головку украшала маленькая шляпа в виде колпачка, с букетом светлых вишен.
Тесно прижавшись к своему спутнику, она говорила что-то очень оживленно.
Спустившись на вторую площадку, пара остановилась.
Мужчина облокотился на балюстраду, а дама откинула вуаль.
Ремин улыбнулся и почти вслух произнес: «Ах, какая прелесть!»
Дама была правда очень мила, но не настолько красива, чтобы вызвать такое восклицание у Ремина. Она просто необыкновенно подходила к декорации, на фоне которой он увидел ее.
К этому круглому личику со слегка вздернутым носом, со смеющимися, лукавыми глазами под наивно поднятыми бровями удивительно пошел бы пудреный парик. Как бы украсила это лицо черная мушка, посаженная на щеке, поближе к уголку ее капризного, пухлого ротика!
– Смотри, Лель! – заговорила дама по-русски – Какой грандиозный вид, какой величественный простор! Пойми – век Людовиков смотрит на нас!
Она сделала грациозный жест своей маленькой ручкой в светлой перчатке, но этот жест совсем не соответствовал ее словам – она словно брала конфетку из бонбоньерки или протягивала кусочек сахару канарейке.
«Ужасно мила!» – подумал опять Ремин, поморщившийся было при звуках родного языка.
Он не любил встречаться с соотечественниками: ведь всего год прошел со времени тяжелой драмы, так нашумевшей в свое время, наполнявшей газеты и служившей темой для салонных разговоров.
Ремин гнал эти воспоминания и старался избегать новых знакомств с приезжими из России.
* * *
Алексей Петрович любовался стоящей на площадке дамой и рассматривал ее спутника.
«Влюбленные или новобрачные? – задал он себе вопрос. – Нет, брат и сестра!» – сразу решил он, когда молодой человек повернулся в его сторону.
Это были два почти одинаковых лица, но в то же время в выражении, во взгляде было что-то до того различное, что через минуту казалось, что сходства почти нет.
Она была в расцвете сил и красоты – он казался совсем почти юношей.
Его волосы были темные, хотя тоже белокуры, а брови гораздо темнее. Слегка насмешливая улыбка капризно изогнутых губ имела в себе что-то рассеянное и скучающее.
– Ах, Лель! – опять воскликнула дама – меня злит твое равнодушие! Я не могу не чувствовать здесь чего-то огромного, потрясающего! Я сожалею, что я не жила в те времена! Я хотела бы быть фрейлиной Марии-Антуанетты и сложить голову на гильотине рядом с несчастной королевой… Я была здесь сто раз, и всякий раз я испытываю то же самое! И я благословляю это волнение! Мы до того погрязли в мелочах жизни повседневной! Я не хочу этого! Я хочу широты чувства иных времен! Времен, когда жили и любили по-настоящему, когда умели умирать и… Ах, где мой кодак! Давай я сниму тебя сейчас… здесь!
– Брось, Додо! Ты не даешь мне жить со своим кодаком – я его разобью, – сказал он лениво.
– Ну милый, ну что тебе стоит! Встань туда, вон к той вазе… Нет, постой, спустимся вниз… На фоне дворца…
Она выхватила из его рук фотографическую камеру и сбежала вниз по ступенькам.
– Сдвинь шляпу назад, облокотись на балюстраду, смотри вон туда… Нет… Нет… на голову Нептуна, – командовала она – оживленная, хорошенькая.
Теперь она стояла рядом с Реминым, не обратив даже внимания на то, что он вежливо подвинулся, чтобы дать ей место. Вблизи она показалась ему еще милее, «забавнее», как выразился он про себя.
– Придется снять с выдержкой… Ах, я тряхну!
Она поставила аппарат на скамейку и заглянула в стеклышко. Это движение опять восхитило его. Она нагнула голову на бок и напомнила ему хохлатую курочку, глядящую на удививший ее камешек или жучка.
– Надо что-нибудь подложить… Monsieur, – неожиданно обратилась она к Алексею Петровичу, – pretez moi votre livre, s'il vous plait.
Она это сказала ласково, с улыбкой, от которой у нее на розовой щечке появилась хорошенькая ямочка, высоко, почти у самого глаза, но голос ее звучал приказанием.
Он подал ей книгу, которую держал в руках.
Она, бросив ему через плечо «merci m-r», опять завозилась у аппарата.
– Додо, это несносно, – протянул с досадой ее брат.
– Сию минуточку… Ах, все еще низко!..
– Позвольте вам посоветовать – поставьте ваш кодак на пьедестал вазы.
Он сказал по-русски совсем нечаянно – и испугался.
Но дама в своем увлечении фотографией не обратила на это внимания.
– Да, да, вы правы! – воскликнула она, порхнув в сторону. – Лель, подайся чуточку вправо. Я считаю до десяти.
Алексей Петрович тоже посмотрел на молодого человека и опять поразился сходством в чертах и разницей в выражении этих лиц.
– Готово! – объявила дама, сосчитавшая вместо десяти – двадцать, и, обернувшись к Алексею Петровичу, кивнула головкой и скороговоркой произнесла: «Merci m-r!»
Она пошла навстречу брату, который слегка дотронулся до шляпы, проходя мимо Ремина, а затем эта пара, повернув направо, скрылась в боскете.
* * *
Ремин остался на скамье, смотря им вслед, и сам удивился грусти, которая охватила его, словно эта пара, на минуту привлекшая его внимание, унесла с собою что-то. Он не был нелюдимым, о нет, напротив – он любил новые знакомства, был очень экспансивен и разговорчив, а эти двое почему-то особенно потянули его к себе, но они были русские, а с русскими он не хотел встречаться. Не хотел, назвав свою фамилию, увидеть взгляд любопытства, а иногда услышать нескромный вопрос.
Может быть, и напрасно, но ему казалось, что всем русским известна пережитая им драма, которая так тяжело отозвалась на нем и уничтожила, как ураган, все вокруг него.
А между тем он не был действующим лицом в этой драме, он ничего не подозревал, чужие страсти кружились вокруг него, сплотились, выросли и рухнули, в общем разрушении захватив и его.
Так иногда во время крушения поезда убивает обломками вагона прохожего, идущего вдоль полотна.
Живой и веселый, Ремин сравнительно скоро оправился от удара, но раны еще болели, и он гнал от себя воспоминания.
Он только что кончил академию художеств.
Хотя по настоянию отца он окончил ее по классу архитектуры, но параллельно он занимался живописью, которую, собственно говоря, и считал своим призванием.
Его первые работы на одной из выставок произвели большой шум. О нем говорили. Хвалили и ругали.
Жизнь, казалось, начинается веселая, блестящая, полная любимого труда и захватывающих интересов. Работалось легко и спокойно – отец не стеснял его в средствах, и вдруг…
Арестовывают одного их знакомого, Эмилия Карловича Вурма.
Ремин не был очень близок с ним, но любил его общество.
Вурм был тонкий знаток в искусстве, и художники прислушивались к его мнению, тем более что в своих очень талантливых статьях во многих художественных изданиях он мог и прославить, и унизить.
Держал себя Вурм всегда очень гордо, самоуверенно и тонко и зло мстил тем, кто не признавал его авторитета.
Катастрофа разразилась внезапно.
Открылась грязная история подлогов и мошенничеств, совершенных Вурмом. Во время следствия выяснилось, что мать Ремина уже два года была любовницей Вурма, растратила небольшой капитал мужа в биржевых операциях и аферах своего любовника, который еще подделал подпись старика Ремина.
Тот не вынес позора и застрелился.
Об этом процессе много шумели в газетах – он был у всех на языке, и Алексею Петровичу казалось, что на него смотрят даже на улице и перешептываются.
Какое это было мучительное время!
Во время процесса адвокаты старались вовсю. Выкапывалось все, что происходило десятки лет тому назад, с наслаждением перемывалось все грязное белье чуть не трех поколений.
Его шестнадцатилетний брат на суде узнал, что он не сын того, кого он привык считать отцом, с ним тут же в зале сделался припадок, и теперь юноша пребывал в лечебнице для душевнобольных.
Ремина была оправдана. Вурм присужден к арестантским ротам. После процесса мать уехала в имение к своей тетке.
А он, Алексей Петрович, переселился за границу.
Жить было трудно. Он еще никогда не трудился для заработка, а теперь ему приходилось исполнять всякую работу, чтобы самому прокормиться и содержать больного брата.
Он рисовал плакаты для курортов и выставок, обложки для книг, декорации в маленькие театры. Эти два года труда и тяжелых дум наложили на него свою печать, он стал менее откровенен, менее доверчив.
Постепенно воспоминания о пережитом кошмаре ослабевали. Успех в салоне его картины «В неизвестном городе» утешил его немного и вернул прежнюю бодрость и жажду жизни. Обстоятельства изменились к лучшему, явилась более приятная и дороже оплачиваемая работа.
Воспоминания приходили все реже, но они все еще были настолько свежи, что он хмурился и вздрагивал словно от боли.
Особенно не любил он писем от матери. Она то жаловалась на деревенскую скуку, то униженно казнила себя, то обвиняла весь мир, и всегда просила денег.
Какова она теперь?
Как он обожал ее раньше, как гордился и любовался ею прежде, может быть, потому-то он и не мог простить, что разочарование было слишком сильно.
Да, какова она теперь?
Очень худенькая, маленькая, она, если не вглядываться пристально в лицо, казалась молоденькой девушкой, так что Варя Трапезонова, высокая и величественная, в двадцать лет казалась старше ее.
Варя… воспоминание о ней тоже было тяжело, но почему тяжело, было совершенно непонятно.
Он познакомился с Варей в Павловске на теннисе. Он был в восьмом классе гимназии, а она только что поступила на курсы и ходила еще в полудлинных платьях, с длинной русой косой.
Он ухаживал за ее приятельницей, очень бойкой барышней, ухаживал потому, что все товарищи ухаживали за барышнями, а эту он даже не сам выбрал, а она прикомандировала его к себе.
Тогда Варе было только восемнадцать лет, но она выглядела старше.
Высокая, сильная девушка с надменным и спокойным лицом, с узкими длинными карими глазами под густыми бровями.
Он, как и все его товарищи, немножко побаивался ее.