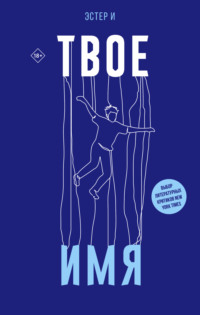Czytaj książkę: «Твое имя»
Esther Yi
Y/N
* * *
Published by special arrangement with Astra Publishing House in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency co-agent Lester Literary Agency & Associates.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© 2023 by Esther Yi
© Чернякова Е.Б., перевод, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *

1. «Банда Парней»
Через два года после релиза своего первого альбома в Сеуле «Банда Парней» уже покоряла концертные площадки крупных корпораций и олимпийские стадионы. Я знала, что группа сейчас на пике популярности: недавняя премьера их последнего клипа обесточила целый остров посреди Тихого океана. Эти ребята обладали настолько яркой харизмой, что на концертах одной фанатке буквально сносило голову, и она еще долго не могла прийти в себя и вернуться к привычной рутине. Еще я была в курсе, что у «Парней» огромные добрые сердца, ведь они подарили той фанатке шанс, причину жить в мире, который, по их мнению, был полон фальши.
По крайней мере, такой вывод я сделала из многочасовых разговоров с Ваврой. Мы жили в одной квартире, так что она целыми днями только и делала, что пыталась обратить меня в свою веру. Но чем сильнее Вавра принуждала меня любить этих парней, тем большее отторжение я испытывала. Их открытое и искреннее общение с поклонниками казалось мне не более чем хитрым планом по расширению фэндома и шло вразрез с моим пониманием любви. Тогда я была скрытной, воинственной, суровой и предпочла бы и дальше находиться в своем коконе, разочаровывая себя и создавая препятствие для других.
Поэтому, когда Вавра объявила, что ее подруга заболела, и пришла вручить мне билет на самый первый концерт группы в Берлине, я отказалась.
– Но я уверена, что этот концерт изменит твою жизнь, – заявила она.
– А я не хочу менять свою жизнь, – ответила я. – Я хочу, чтобы моя жизнь оставалась прежней, настолько неизменной, насколько это возможно.
Вавра посмотрела на меня с сочувствием. С тех пор как я, странная незнакомка из сети, въехала к ней в квартиру, прошел уже год. Все это время она постоянно пыталась заботиться обо мне, а я отчаянно этой заботы избегала, что в итоге привело к появлению своеобразной дружбы между нами.
Такие вещи, как смерть или глобальные катаклизмы, меня не сильно пугали. Больше всего на свете я боялась открыть свою душу дешевизне и глупости, тем самым разрушив образ серьезности, который сама для себя создала. Тем не менее Вавра невольно учила меня искусству самоопределения, и за это я, в принципе, была ей благодарна. Я снова посмотрела на книгу, лежащую на столе передо мной.
– Ты выглядишь как ученый, – заметила Вавра, – коим не являешься.
– Спасибо, – довольно кивнула я.
– Я имею в виду, ты ничего не делаешь с тем, что читаешь. Как насчет преподавания? Ты могла бы воспитывать юные умы.
– Как? Я себе-то не могу помочь.
– Если бы «Банда Парней» думали так же, они бы не достигли таких высот, – произнесла Вавра. – Они не боятся оставить след в жизни других людей, при этом искренне верят в свою гениальность.
Закрыв глаза в молитве и открыв их снова, она снисходительно улыбнулась, как будто только что вернулась из места за гранью моего понимания. Однако ее возвращение в наш огромный глупый мир поразило меня до глубины души, словно мне недоставало решимости меняться. Именно тогда я поняла, что до сих пор не последовала за ней только потому, что знала – возможно, я уже никогда не вернусь. Я испытывала не отторжение, а страх, что это изменит меня навсегда. Моя трусость раздражала меня, но любопытство оказалось сильнее, и я впервые задалась вопросом, каково это – любить «Парней».
Два часа спустя я уже направлялась с Ваврой в переполненный зал. С наших мест в самом конце зала сцену было видно очень плохо, поэтому я смотрела на большой экран, служивший фоном. Этот экран размером с многоэтажный дом очень четко воспроизводил все, что происходило на сцене. Так что, когда пятеро ребят появились будто случайно и, опустив головы, сложили руки на животе, я думала только о том, как они, такие маленькие, словно рисовые зернышки, смогут пережить вечер у подножия своих гигантских изображений. Тысячи зрительниц разразились пронзительными криками. Я вспомнила рассказ Вавры о том, что в последнее время на концертах «Банды» участились случаи разрыва барабанных перепонок, поэтому продюсеры группы рекомендовали фанаткам пользоваться берушами. Но я не видела ничего подобного у окружающих меня девушек. Они наконец-то дышали одним воздухом со своими кумирами; сейчас было неподходящее время, чтобы заботиться о таких пустяках, как собственное тело.
Парни все еще стояли в линию, склонив головы, как будто их только что отругали. Они были одеты в одинаковые черные туфли-дерби и черные брюки, но верхняя часть их образов отличалась, передавая индивидуальность. Каждый из участников группы носил имя, данное ему в честь какого-то космического тела, но среди них не было Земли. Я не знала, как кого звали. Вавра без конца выкрикивала имена всех пятерых, специально стараясь не произносить одно имя чаще другого.
Я же не была сторонницей равенства. Я уже решила, что крайний слева парень нравится мне больше всех. На нем была розовая шелковая рубашка на пуговицах с длинными манжетами, которые полностью скрывали его руки, оставляя на виду лишь кончики пальцев. Он отчаянно вцепился ими в подол рубашки, как будто мог в любой момент вылететь из нее. У него были светлые волосы, в точности как цвет его лица, и казалось, что его кожа продолжается за пределами его головы.
Когда он поднял голову, я увидела плоское, ничем не примечательное лицо, с глазами узкими, как щель между двумя полосками жалюзи. Но его простота казалась продуманной, призванной подчеркнуть глубину взгляда, которая идеально сочеталась с каменной холодностью бледной кожи. Поза, которую он принял, казалась невозможной: он стоял абсолютно прямо, вытянувшись вверх, но шея находилась под таким невообразимым углом, что голова, которую он тоже держал прямо, принадлежала будто другому телу. Больше всего меня волновала именно шея. Она была длинная и гладкая, с крепкими мышцами, которые тянулись вниз, вдоль всего тела, прямо до паха, где они, как я себе представляла, мужественно сходились к пенису.
Софиты на сцене зажглись красным, и их огни сложились в новое созвездие, отбросив длинные тени на лица парней. Заиграла музыка – атональные звуки синтезатора смешались с драйвовыми ударными, и парни начали танцевать. По словам Вавры, они никогда не использовали подтанцовку, так как считали дешевым трюком выделяться на фоне сравнительно обычных ребят. И вот они были там: пять одиноких пятнышек на огромной черной сцене. Они встали в круг, лицом друг к другу, и создали между собой невидимый энергетический шар. Во время потрясающего припева они развернулись и раскинули руки ладонями вверх, словно отдавая энергию окружающей пустоте.
«Парни» пели:
– Что значит умереть на этой планете? Одиночество, отчаяние, хаос. Человек – это песчинка в космосе. И что значит жить на этой планете? Созидание, желание, борьба. Человек – это космос в песчинке.
Вавра рассказывала, что почти каждый вечер, после усердной тренировки, «Банда Парней» мылись, а затем собирались в своей гостиной и изучали классическое искусство и литературу. Каждый их альбом был отдельной эпохой, и, готовясь к нынешнему, «Парни» корпели над корейским переводом Софокла, возмущенные решением Эдипа ослепить себя. Да, он был слеп в своем невежестве, но почему бы тогда не сделать две новые дырки у себя на лице для еще одной пары глаз? Альбом стал протестом против капитуляции Эдипа перед тьмой, превозносил истину и свет.
Я продолжала смотреть на мальчика с волнующей шеей. Другие участники группы выражали глубину своих чувств через движения или выражение лица; я понимала, как они взаимодействуют с миром. Но его поведение не поддавалось логике. У меня не получалось предугадать его следующее действие, но как только оно происходило, я не сомневалась в его правильности, необходимости. Казалось, он контролировал даже скорость, с которой двигался, его ноги приземлялись с невероятной нежностью, как будто он не хотел потревожить сцену. Его движения были плавными, трагичными, античными. Каждый мускул напрягался в подходящий, самый последний момент, как будто он заранее перемещался во времени.
Каждый из участников по очереди становился во главу треугольного строя и исполнял свою партию, отчего крики в зале усиливались пятикратно. Когда парень с будоражащей меня шеей рванулся, чтобы выйти вперед, мои глаза наполнились слезами. Я следила за резкими движениями его тела и слаженной работой мышц и все яснее понимала его индивидуальность – то, чем он отличался от других. И я знала, что люблю его, потому что он нравился мне больше остальных.
Его голос был словно розовая лента, развевающаяся на ветру:
–Раньше я стоял неподвижно и внимательно наблюдал за миром. Теперь я бегу так быстро, как только могу, и осознаю все так быстро, насколько возможно, но даже этого недостаточно, ведь все, что я вижу, – улицу передо мной, готовую исчезнуть за горизонтом. Вот бы расплющить землю, чтобы я видел все и всегда.
Я бы никогда не смогла соотнести исчерпывающие рассказы Вавры о каждом парне с их именами и лицами. Но его движения на сцене подняли мысли из глубин моего сознания, и они завихрились, как нить вокруг катушки со звучным именем: Мун. Я вспомнила, что двадцатилетний Мун был самым молодым в группе.
Он был вундеркиндом в балетной труппе Сеула, исполнял все главные роли, пока ему не исполнилось четырнадцать и его не наняла развлекательная компания. Четыре года спустя он почти провалился, пытаясь завоевать себе место в «Банде Парней», потому что президент компании, известная как Профессор Музыки, была настроена скептически: ни на кого не похожий Мун мог поставить группу в зависимость от индивидуальных особенностей своего танца. Другим участникам пришлось бы подстраиваться под него, и яркие, но вполне обычные, присущие остальным парням особенности стали необходимыми для проявления индивидуальности Муна. Для меня обрели смысл однажды сказанные Ваврой слова: он ел тяжелую пищу прямо перед сном и просыпался стройным и подтянутым, что доказывало интенсивность его метаболизма во сне.
Меня уносило. Я испытывала то, что Вавра однажды описывала как «Мой Первый Раз». Но, в отличие от потери девственности, которую я предвкушала с таким трепетным осознанием, что больше была уверена, что когда-нибудь займусь сексом, чем умру, я не знала, чего ожидать от Муна. Мой первый раз, пережитый в возрасте двадцати девяти лет, заставил меня задуматься обо всех других первых разах, которые у меня еще могут быть. Мир внезапно наполнился множеством возможностей для любви.
Через несколько песен парни снова встали в ряд. Поскольку Сан, самый старший, двадцатичетырехлетний, участник группы, говорил по-корейски, переводы на английский и немецкий транслировали на экране. По его словам, у них за плечами была уже половина их мирового турне, которое началось два месяца назад в Сеуле, после чего они отправились на восток, чтобы встретиться со своими поклонниками в Северной и Южной Америке. Он сказал, что теперь их путешествие привело их в Европу, и они решили удивить свои семьи, вызвав для них самолет на континент, на котором они, как и сами парни, никогда не бывали.
Каждый из парней смотрел в камеру, изображение с которой выводилось на экран, и выражал благодарность своей семье. Мун, выступавший последним, подошел к краю сцены.
Спрятав глаза от софитов, он посмотрел прямо в зал.
– Мама, папа, старшая сестра, – произнес он, – я вас не вижу. Я люблю вас. Но где же вы?
Это «но» ошеломило меня.
Звуки струнных инструментов, меланхоличные и медленные, наполнили зал. Мун подошел к центру сцены и встал там один. На его глазах была черная повязка. Все в зале подняли свои телефоны, включив перед моими глазами тысячи лун.
Он пел о том времени, когда ему было невыносимо пройти по комнате в присутствии других. Он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, в какой он форме, поэтому носил безразмерные рубашки до колен. Тот факт, что он не мог спрятать от окружающих свое лицо, причинял ему боль. Если бы только оно могло оставаться скрытым от глаз, как и его паховая область. Но потом он увидел «меня». Наконец-то он смог выдержать то, что на него смотрят. «Я» смотрела на него так часто, чаще, чем кто бы то ни был в мире, что у него не оставалось выбора, кроме как увидетьсебя. В этом и была проблема – в том, чтобы честно и открыто посмотреть на самого себя.
–Взведи курок своих глаз, – пропел он. – Я сделаю так, что в меня будет легко выстрелить.
Все в зале подняли руки и развели большие и указательные пальцы в стороны, превращая их в пистолеты, нацеленные на Муна. Я не могла сделать так же, ведь мои руки были скрещены на груди, не допуская ни единого лишнего движения, которое могло бы нарушить мое состояние абсолютной пассивности, которое я изо всех сил поддерживала, чтобы Мун мог воздействовать на меня как можно сильнее.
Послышались звуки выстрелов. Тысячи запястий свело судорогой. Мун, пораженный в грудь, отшатнулся назад. Я думала, что он упадет, но вместо этого он начал поворачиваться на одной ноге, подставляя себя под длинный поток пуль поклонников. Он нырнул головой, затем остальным телом. Его вторая нога раскачивалась в такт музыке. Я наконец поняла, что его рубашка цветом напоминала язык новорожденного. Он пробовал своим телом пространство на вкус. Этот день всегда будет первым днем его жизни.
Он остановился и сорвал повязку с глаз. Я смотрела то на экран, где видела капельки пота на кончике его носа, то на сцену, где его тело было крошечным размытым пятном. Я не знала, чего мне хотелось больше – четкой копии или размытой действительности. Он начал спускаться с подиума, который тянулся от главной сцены до самого центра зала. На экране я увидела, как капелька пота задрожала и исчезла, вероятно, упав на пол. Мун вздернул подбородок и посмотрел слегка свысока, как будто соблазнял того же человека, с которым хотел подраться. И этим человеком была я. Он шел прямо ко мне.
Я начала протискиваться сквозь толпу. Разъяренные поклонницы пытались преградить мне путь. Я не винила их, я была очень плохой фанаткой. Но и не чувствовала никакой солидарности. Я вычеркнула их из своего восприятия, из пространства вокруг. В моей голове стало тихо. Мун и я были одни в зале и шли друг к другу. Я хотела запрыгнуть на сцену и заставить его посмотреть мне в глаза. На долю секунды он не видел бы никого, кроме меня. Я знаю, меня бы осудили за навязчивость, но мне было все равно, я былачеловеком, я знала это, как ничто другое, настоящим человеком, пускай и несчастным и пустым.
Мун из крошечного сделался маленьким, из маленького – чуть менее маленьким. Я мечтала, чтобы он стал таким же большим, как я сама, но чем быстрее он приближался к тому, чтобы стать размером с нормального человека, тем больше я чувствовала, что он никогда не сможет этого сделать. Мы остановились одновременно: он дошел до конца подиума, но я не могла пробиться дальше сквозь толпу. Он мечтательно запрокинул голову, обнажив шею, почти такую же длинную, как и его лицо. Можно было разглядеть просвечивающие голубые вены под белой кожей. В них бурлила жизнь. Его шея была спокойной, в отличие от лица, которое отражало всю глубину его души. Ошибка Вавры была в том, что ее рассказы были настолько понятными, что я сразу знала о Муне все. Но все, что меня интересовало на данный момент, – это его необычная шея.
С потолка спустился стальной трос. Мун опустил голову, снова спрятав шею в тень, и прикрепил трос к пряжке у себя на ремне. Все лучи софитов в зале были направлены на него. Он стоял неподвижно и старался выдержать такое внимание к себе. Он был как подарок, который вручили, но тут же отняли. Меня пронзил голод. Я хотела большего, хотела всего этого, но не осмеливалась желать Муна, ведь насколько это было просто, настолько же и невозможно.
–Я буду тобой, когда вырасту, – пел он. – Ты будешь мной, когда родишься заново.
Когда трос поднял Муна в темный небосвод зала, я не прощалась с ним. Я знала, что увижу его снова, что я теперь обречена всегда видеть его. Его глаза были закрыты, а руки повисли по бокам, как будто он отдавался некой божественной силе. Его ладони сжались в кулаки, но при этом казались расслабленными. Мне стало дурно при мысли о том, насколько влажными они должны быть.
Я работала удаленно, копирайтером на английском языке в компании по производству консервированных артишоков, принадлежавшей австралийскому эмигранту. Я выражала словами любовь, которую гипотетически мог испытывать овощ к своим покупателям. Я и раньше не пылала особой любовью к своей работе, а после концерта и вовсе стала избегать звонков босса, чувствуя тошноту при мысли о том, что придется обсуждать серьезно такие несерьезные вещи.
Вместо этого я часами переписывала длинную записку, которую Мун написал для своих поклонников по случаю своего двадцатого дня рождения. Я мечтала иметь почерк как у него: узкий и угловатый, с особой энергетикой, заполняющей всю страницу. У меня не было своего корейского почерка. Я выросла, разговаривая на этом языке, но почти никогда ничего не писала. Всякий раз, когда я обжигалась кипятком, я вскрикивала от боли по-корейски, но, чтобы выразить боль, которую я испытывала от отношений с самой собой, требовался английский. «Мне нравится стареть на ваших глазах, – написал Мун. – Так я чувствую себя историей, от которой вы никогда не устанете». К тому моменту, когда я переписала записку в пятый раз, я уже знала текст наизусть. Его рука, так же как и его мысли, уже казались мне моими собственными.
На кровати заверещал мой телефон. Теперь звук на нем я включала только тогда, когда Мун собирался выйти в прямой эфир. Запустив трансляцию, я увидела его лежащим на белоснежных простынях на кровати в гостинице в Дубае. Он держал телефон прямо над своим лицом. Я перевернулась на живот и пристально смотрела на него сверху вниз, положив телефон на матрас. Его взгляд потяжелел от усталости. Я надеялась, что он не сделает ничего необычного. Его манера запросто общаться с фанатами заставляла меня почувствовать себя еще ближе к нему.
– Привет, Ливеры1.
Парни называли своих фанатов «Ливерами», потому что мы были не просто «дорогими сумочками», которые они носили с собой. Мы поддерживали в них жизнь, как жизненно важные органы. Я подозревала, что они использовали английское словоliver, потому что оно было созвучно со словом lover. Они могли позволить себе некоторую жеманность. Но я бы предпочла быть печенью Муна, а не любовницей.
– Я только что вернулся из кафе внизу, – сообщил он. – На выбор была сотня различных блюд, но я ел только вредное. Надеюсь, вы хорошо поели сегодня?
– Пожалуйста, – напечатала я по-английски, – прибереги эту пустую болтовню для других. Еда мешает мне сосредоточиться. Немыслимо, что нужно есть три раза в день. Имеет ли это хоть какое-то значение?
Мун начал читать комментарии, и его глаза бешено забегали по экрану. Каждый комментарий исчезал после появления следующего, обычно на другом языке. Один фанат-веган просмотрел меню кафе и теперь составлял список всех представленных в нем животных, чтобы полюбить Муна «без иллюзий». Однако мне показалось, что если бы Мун пожевал этого фаната, как тех животных из меню, то доставил бы ему массу удовольствия.
Я слышала, как под Муном шуршит простыня при малейшем движении его тела. Но он не мог слышать тысячу шуршащих простыней его поклонников по всему миру.
Я пыталась представить, что больше никого нет, что мы с Муном парим одни в этом виртуальном пространстве. Но это быстро утомило меня, особенно когда я поймала себя на мысли, следует ли мне держать рот открытым или закрытым. Дело в том, что он не мог меня видеть. Дажевозможность выглядеть перед ним тупицей казалась мне невозможной привилегией.
Мун громко рассмеялся. Он слегка прикрыл один глаз. Он был единственным человеком, которого я знала, кто мог так искренне подмигивать.
– Вы не спите всю ночь, беспокоясь о том, достаточно ли я ем.
Он был прав.
– Когда мой живот исчезает, вы скучаете по нему. Но когда он появляется снова, вы скучаете по тому, как раньше торчали мои ребра. Так чего же вы на самом деле хотите?
Его вопрос был абсолютно верным.
Я энергично застучала по экрану телефона:
– Я очень надеюсь, что ты периодически пропускаешь приемы пищи. Когда ты становишься худее, твоя душа становится заметнее, она практически у тебя под кожей. Ты становишься чистым потоком энергии, словно пламя факела. Но продюсеру лучше не сажать вас на диету. Это было бы отвратительно самонадеянно. Тебе виднее, как изнурять себя. Никто не может заниматься подобным, кроме тебя самого.
Я достигла максимального количества символов, нажала «Отправить» и смотрела, как мой текст исчезает в потоке гораздо более содержательных сообщений.