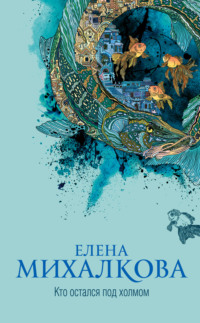Czytaj książkę: «Кто остался под холмом»
© Михалкова Е., 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Глава 1
1
Выйдя на обрыв, Марта оглянулась: за шумом ветра ей почудились шаги. На лесной тропе, конечно, никого не было. Люди здесь не появлялись очень давно.
Змеиное тело реки рассекал надвое песчаный островок, за которым черная вода сливалась воедино. На островке гнездились чайки, надрывались так, что непонятно было, как собственный крик не раздирает им горло, но иногда внезапно стихали – все разом, словно кто-то беззвучно приказывал им: «Чш-ш-ш».
Ниже по течению река изгибалась, и там, за поворотом – отсюда не увидать – была пристань. На другую сторону ходил паром, в основном перевозя старух, изредка выползавших в город из своей Ткачихи – единственного обитаемого места среди громадного массива безымянного леса, так и называемого: Лес, как река называлась Рекой, хотя на карте было у нее какое-то невнятное, ничего не отражающее имя.
Прежде Марта никогда не спускалась к воде.
Шишига говорит: все реки слепы, кроме этой. Не вздумай даже приближаться к ней, девочка, – темная вода заберет тебя, как забрала тех двоих. Здесь обитает смерть, щерится из-под коряги, сплетает жидкие водоросли в удавку.
Маленький Оська, утонувший четырнадцать лет назад, не хотел купаться, он только бродил по берегу. Марта уверена, что сердце его замирало от сладкого ужаса и он чувствовал себя отчаянным храбрецом – глупый мальчишка, нарушивший запрет.
Анну, почтальоншу, в тот день занесло на крышу дома. Не подумайте, что ветром: Анна Козарь такова, что может остановить любой ветер, всего лишь уперев руки в бока. Она забралась туда сама, чтобы укрепить разболтавшийся флюгер, и заметила мальчика.
Ее пронзительный крик донесся до Оськи. Он услышал, обернулся и…
Это был оползень, утверждают в городе, песчаный оползень, мальчик стал жертвой несчастного случая. Едва он оказался в воде, течение подхватило его, словно щепку, закрутило и вынесло на стремнину.
Шишига говорит: неправда. Все было иначе. Что-то быстрое, гибкое как хлыст скользнуло из реки; оно обвилось вокруг тощей Оськиной шеи и потащило вниз. Анна молчит об этом: не желает прослыть сумасшедшей. Марта видела сумасшедших – старуху с палкой, что ходила вокруг магазина с огромным узлом, откуда торчали рваные тряпки, и худого старика, который неровно держал голову и смотрел на жизнь одним глазом. Кто захочет быть похожим на них? Да никто. Но этот образ – вода, щупальце, быстрое движение и всплеск – запал ей в душу.
«Поклянись, что никогда не пойдешь к реке». Марта пообещала, скрестив за спиной пальцы, и зажала между зубами язык. Кто зажмет – тот соврет.
Шишига однажды сказала: самые хорошие истории начинаются с того, как кто-то нарушил запрет. И самые плохие тоже, добавила она, но эту часть Марта пропустила мимо ушей.
2
Она оставила под сосной пыльные кеды, спрыгнула на откос и заскользила вниз по теплому песку. Флакончик духов, украденный у Киры Михайловны, оттягивал карман.
Обманчиво тихая вода у берега была совсем прозрачной. В ней, как в стекле, застыли неподвижно серебряные ясноглазые мальки. Марта протянула руку, и стайка метнулась из-под накрывшей ее тени.
– Встали ночью в хоровод, – отчетливо проговорила Марта, – ведьма, леший, черный кот, старый гном и домовой. Прячься быстро, кто живой!
Сейчас полдень, а вернуться нужно до пяти.
– Клад зарыли под холмом ведьма, леший, старый гном, домовой и черный кот. Там один из них умрет.
Марта сунула руку в карман, и пальцы на миг сомкнулись вокруг граненого стекла. Не забыть перепрятать, сказала она себе, иначе снова начнется…
Футболка и шорты полетели на песок. Марта вошла в реку и невольно ахнула: ее мгновенно пропитало холодом, точно губку. Кира Михайловна рассказывала о ледяных подземных ключах, бьющих на дне.
– Клад зарыли под холмом… – выговорила она, стуча зубами.
И поплыла.
К сильному течению Марта была готова, но не думала, что вода окажется слоистой, как пирог. Сверху еще можно было дышать, однако метром ниже плоть реки непостижимым образом твердела и в кожу впивались сотни снежных игл, отточенных сосулек.
Устав, Марта перевернулась на спину. Взмах – гребок. Взмах – гребок. Она отталкивалась от упругой воды, преодолевая сопротивление, рывками продвигаясь все дальше и дальше.
Когда в начале мая, сухого и знойного как самум, Марта стала каждое утро сбегать из дома, бабка заподозрила дурное. Пару раз тайком последовала за ней, надеясь поймать на очередном преступлении. Однако ее ждало разочарование: Марта всего лишь плавала на Долгом озере, из конца в конец, с упорством спортсмена, готовящегося к соревнованиям. День за днем, неделя за неделей, без перерывов и поблажек, все увеличивая расстояние, которое она могла проплыть, не испытывая усталости.
Ведьма, леший, старый гном…
Подняв голову, Марта с изумлением обнаружила, что течение снесло ее ниже островка, на котором она собиралась отдохнуть. Внезапно нахлынувший страх парализовал ее, и тотчас Марту потащило вниз по реке, точно рыбу, заглотившую наживку. Сволочь, выругалась она, отпусти меня!
Однако самые энергичные гребки больше не продвигали ее к цели. Тело готовилось сдаться на волю реки, точно малодушный солдат, не слушающий команд военачальника. Отдохнуть, уснуть, застыть в речном стекле подобно серебряным малькам…
Там один из них умрет.
Вон он, берег. Створки моллюсков, высохший ситник, бурые порезы глины в белом песке… И воздух! Сколько хочешь воздуха!
В ушах зашумела волна, берег потерялся за багровым туманом. Маленького человека – нет, не человека, механическую куклу с кончившимся заводом, чьи движения диктовала лишь инерция, – река обхватила крепче. Будь моей игрушкой, рыбкой, цветным камушком!
Но пловец бился отчаянно. Метр за метром, метр за метром…
Река нехотя отпустила добычу.
Кашляя, Марта выбралась на берег и обмякла на песке. Счастье! Перевернуться на спину, раскинуть руки и дышать, дышать, дышать…
– Я тебя победила! – пробормотала она.
Пятки насмешливо окатила волна.
Следов человека не было. Ни пустой сигаретной пачки, ни обрывка рыболовной сети, ни дохлой полиэтиленовой медузы. Марта поднялась и победно оглядела длинную прибрежную полосу.
От моллюсков разило тиной. Она перевернула одного, воткнула беззубку в песок створками вверх. Так делают все моряки, чтобы, вернувшись, съесть подкоптившуюся на солнце мякоть.
Гнус назвал ориентир: линия электропередач. От черного столба идти на север, пока не упрешься в холм. У Марты не было ни лопаты, ни компаса, но она умела ориентироваться по солнцу, а вести раскопки планировала в другой раз, сперва – разведка.
Корабельные сосны, которые она любила больше всего на свете, остались на том берегу. Золотые свечи, зеленое пламя крон, бронзовые блики. О том, что все деревья растут к солнцу, Марта читала в учебнике и, если бы не Кира Михайловна, вырвала бы лживую страницу и сожгла. Бледные болезненные осины – разве тянутся они вверх? Украдкой, таясь, расползаются от болот, шелестя, как гигантские мотыльки. А береза? Ветви льются к земле, по ночам шепчутся с травой. Липа гостеприимнее всех: распахивает объятия широко, и солнце ей ни к чему, она сама себе солнце.
Лес на этой стороне реки был особенный – царство черной ели, дерева сильного, злого и могущественного. Дух стоял сырой, тяжелый, грибной. В пятки впивались иглы и шишки, но Марта даже не ойкала: кожа на подошвах у нее давно загрубела и потеряла чувствительность. Там, где ели неохотно раздвигались, освобождая место для подлеска, все заполонял жесткий папоротник.
Она пробиралась через чащу, с восторгом разглядывая новый мир. Тяжело провисающие нижние ветви с каймой высохших желтых игл – словно юбки колдуний, кружащихся в пляске, а волны мха – их постель. И сколько шишек! Связки, гирлянды, ожерелья…
Диких зверей Марта не боялась. Экзекуции, которым регулярно подвергала ее бабка, повлияли не только на характер Марты, но и на ее голосовые связки: она научилась истошно визжать. Звук был невыносим: бабка швыряла ремень и выскакивала за дверь, зажимая уши. Благодарить за эту способность следовало фильмы о волшебнике Гарри Поттере: однажды увидев на экране мандрагору, Марта раз и навсегда выбрала ролевую модель для общения с разъяренной старухой.
Она шла, и шла, и шла. Солнце припекало. Столбов не было и в помине, а ведь Гнус клялся, что до них не больше получаса ходьбы.
Тесный купальник с его дурацкими лямками Марта давно стащила и обвязала вокруг пояса. Ее не смущала ни нагота, ни царапины, которые ветки оставляли на ее теле. Но линия электропередач – отчего ее нет?
Марта легла в мох и стала думать. Почему она не нашла холм? Сбилась с пути? Неправильно выбрала направление?
Надо было нарисовать карту, взять с собой питьевую воду! Придется возвращаться ни с чем.
Обратный путь дался ей легко. Не будь по эту сторону реки до ближайшего жилья двадцать километров, она заподозрила бы, что здесь кто-то постоянно ходит.
Стряхивая липкую паутину, Марта выбралась из-под полога леса. Застегнула купальник, вытащила из волос брыкающуюся лесную живность, щелчком отправила в песок. Подняла глаза, и сердце ухнуло в живот.
На берегу стоял человек с черным лицом.
В его облике было что-то невыразимо страшное. Если бы на воде качалась лодка, Марта перепугалась бы до смерти, но этот ужас был бы рационален и объясним, как паника грабителя, увидевшего шерифа с ружьем. Но на нее смотрел не рыбак, выследивший нарушительницу, не заблудившийся турист.
– Ыыы!
Существо пошло к ней, двигаясь как-то странно, враскачку, щуря глаз.
– Эыыы!
Марта замерла. Человек протянул к ней руки:
– Давай сюда-а-а!
Молниеносно пригнувшись, Марта зачерпнула горсть песка и швырнула ему в лицо.
Он взвыл, словно это был не песок, а битое стекло, и принялся тереть глаза. Воспользовавшись короткой передышкой, она схватила сухой обломок коряги, ткнула противника в живот, и он отчаянно, но бестолково замахал руками. Марта перехватила оружие поудобнее. Сердце скачками бежало откуда-то снизу, от пяток вверх, до макушки и обратно, словно спринтер, потерявший свою трассу.
В лес нельзя – заблудится, сгинет. В воду? А вдруг он плавает быстрее? Остается одно: мчаться вниз по берегу, пока не поравняешься с паромом, и тогда орать что есть силы, махать руками, надеясь, что заметят с другого берега и спасут.
Марта напоследок швырнула в него свою корягу и сорвалась с места. За спиной послышался все ускоряющийся топот. Набросится, вонзит зубы в шею, растерзает и уволочет останки в чащу.
Вдруг раздался хриплый крик боли. Топот оборвался, и, обернувшись, Марта увидела своего преследователя на песке: страшный человек, подвывая, прижимал к себе собственную ступню, словно баюкал младенца. Песок под ней потемнел от крови.
Ракушка! – осенило Марту. Моллюск, ее неприкосновенный продуктовый запас! Он должен был свариться под солнцем, а превратился в миниатюрный капкан; острые створки распахнулись, словно венерина мухоловка, но поймали не муху, а гигантского черного паука.
– Теперь сам помучайся! – выкрикнула Марта.
Убедившись, что преследователь выведен из строя, она перевела дух. Ее потряхивало, и сладковатый привкус изгнанного ужаса еще чувствовался на языке, но в голове уже зашумело от опьянения победой.
Вопли перешли в поскуливание.
Ревет! Так ему и надо. Хотел убить ее, а вместо этого охромел.
Марта сплюнула на песок. Торжество вытеснилось беспокойной мыслью: надо бы рассказать взрослым о твари, что живет на запретном берегу.
Человек продолжал скулить.
– Да заткнись ты!
Поскуливание сменилось прерывистыми всхлипами. Марта остановилась, топнула ногой.
Чужих слез она не выносила. Зачем, зачем он ревет! При звуках плача у нее внутри как будто кто-то переезжал пополам червяка; она ненавидела, когда переезжают червяков.
– Ы-ы-ы! Бо-о-о-о-льно!
Она скрипнула зубами и повернула обратно.
Шаг, другой, третий. Вдруг это ловушка…
В пяти метрах Марта остановилась. Отсюда паук выглядел обычным мужчиной, довольно неопрятным. Он поднял к ней лицо, и стало видно, что слезы прочертили на его лице длинные светлые бороздки.
– Да ты грязный, – невольно сказала Марта. Загадка страшной черной морды разъяснилась.
– Больно, – снова пожаловался человек.
Она присела на корточки. Рана выглядела нехорошо. Казалось бы, нет никого безобиднее речного моллюска, а поди ж ты – рассек бедняге ступню чуть ли не до кости. С людьми дело обстоит точно так же, Марта давно это заметила. Вспомнить хотя бы Гнуса…
– А зачем ты меня убить хотел? – Она шмыгнула, придвинулась ближе.
Он взглянул недоуменно и испуганно. Челюсть отвисла, как у ребенка, кажется, он снова собирался зареветь.
– Ладно, проехали, – буркнула Марта. – Покажь. Покажь, кому говорю!
До воды ему пришлось доползти самому, и пока Марта промывала рану, он сидел молча, лишь иногда кривясь от боли. Грязный, заросший как черт; пахнет свалявшейся собачьей шерстью; глаза то ясные, то плещется в них какая-то муть. Рот перекошен. Несколько раз, ловя на себе короткий взгляд, Марта почти решалась удрать, но что-то ее останавливало. Моллюск, вот что. Это ведь она укрепила ракушку в песке.
В карманах его нелепых трико – господи, кто по такой жаре носит трико! – нашлись три обсосанных до прозрачности липких леденца и расческа без половины зубов.
– Платка мы с собой, значит, не носим, – сказала Марта противным бабкиным голосом.
Пришлось пожертвовать для перевязки его рубахой.
Когда он поднялся, стало ясно, что сам идти не сможет. Мужчина вопросительно посмотрел на Марту и как будто даже съежился, страшась ее отказа.
– Показывай, куда двигаем, – вздохнула она.
3
Все-таки это была тропа. То, что Марта принимала за естественные просветы между елями, оказалось дорожками; похоже, их использовали не часто.
Они дошли бы быстро, если б не хромота ее спутника. Он опирался на ее плечо, и Марта сама чуть не падала под его тяжестью.
– Ты под холмом живешь? – спросила Марта.
– Холмом?
– Ну, под горой.
– Тут гор нее-ету. – Он говорил немного в нос, гнусаво. – Это ле-е-ес.
Тьфу, бестолочь.
– А где твой дом? – допытывалась она. – Откуда ты взялся?
– Я тут живу-у.
– Ну, хорошо, а зовут тебя как?
Он остановился, посмотрел на нее сверху вниз и с удовольствием выговорил, растягивая гласные:
– Мало-ой.
– Малой? Нет, это прозвище. А зовут? Имя, понимаешь? Как тебя мама назвала?
Он помрачнел и дернул углом рта.
– Была же у тебя мама!
В темных полусонных глазах промелькнуло что-то пугающее, как если бы под рыбацкой лодкой беззвучно прошла огромная тень и растаяла в глубине.
– Сирота, значит, – торопливо согласилась Марта и увидела на поляне дом.
Надежды на ведьмино обиталище рассеялись. Прозаическая изба из старых темных бревен, за невысоким частоколом – бочки с дождевой водой, грядки и сарай. Из окон выплывали лебедями на удивление чистые, даже, кажется, накрахмаленные занавески.
Их принял прохладный сумрак дома; пот высох, и Марта покрылась противными мурашками. Пахло гречкой, уютным домашним запахом, и, заметив на плите укутанную кастрюлю, она немного успокоилась. Там, где варят гречку, никогда не случается ничего плохого (кроме, конечно, самой гречки).
– Малой!
– Тут я! Иди сюда! В дальнюю комнату!
Марта пошла на голос, отмечая про себя, что ее новый знакомец стал разговорчивее и больше не заикается. Он нашелся за дверью: стоял на коленях над грудой тряпья, в которой Марта распознала скрюченного мертвеца. Она лязгнула зубами от ужаса. Малой повернулся.
– Тебе! – По его лицу растеклась улыбка.
Никакой не мертвец. Всего лишь свернутый в валик матрас.
На мозолистой ладони темнела выточенная из дерева лошадка на шнурке. Марта осторожно взяла ее.
– Тебе!
Он накрыл ее руку своей и залопотал что-то быстро-быстро, перейдя на птичий язык. Марта с трудом разбирала, что это его любимая игрушка… они теперь друзья… друзьям дарят подарки…
Она с изумлением вглядывалась в Малого, пытаясь найти в нем сходство со страшным бородачом, напугавшим ее до полусмерти.
Хлопнула дверь.
– Малой, ты дома?
Перепуганная кошка не сиганула бы из окна быстрее, чем Марта, услышавшая хриплый рык. Она перекатилась по траве и бросилась под укрытие деревьев. Через лес, знакомой тропой; дождаться, пока выровняется дыхание, – и плыть наискосок.
То ли пережитый страх, впрыснутый в кровь, придал ей сил, то ли сработало правило обратного пути, но только Марта выбралась на свой берег, всего лишь запыхавшись. Она плюхнулась на песок и крепко сжала болтавшуюся на шее деревянную лошадку.
Глава 2
1
Никто не мог сказать достоверно, когда город под названием Беловодье возник на карте.
Автомобилист назвал бы его маленьким, пешеход – большим, любитель достопримечательностей – провинциальным, любитель провинциального – сказочным; в общем, это был один из тех городков, о которых люди посторонние могут узнать разве что из атласа путей сообщения.
Самые высокие дома в нем были пятиэтажки, выстроившиеся вдоль аллеи Славы, излюбленного места прогулок горожан. Обитатели верхних квартир разглядывали по утрам со своих балконов криво нарезанные огороды и разросшиеся сады, в которых летом пронзительно пересвистывались зяблики, малиновки и прочая горластая птичья мелюзга.
Беловодье не выглядело ни чистым, ни опрятным. Мусора хватало, но мусора пустякового: оберток, пачек от сигарет, дынных корок да пакетов: ничего, что не мог бы утащить бродячий пес или ветер. Даже похабные надписи на стенах были какие-то несерьезные, словно учительница литературы кралась в сумерках, прикусив от смеха губу, и выцарапывала школьным мелом нецензурщину, чтобы на следующий день отчитать своих остолопов и вывести на доске: «Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. А.И. Куприн» – тем же самым мелом.
Убегая от реки, город взбирался по холмам и утыкался в ворсистый подол леса. В бесснежные зимы к окраинам выходили волчьи стаи. Старуха Макеева рассказывала, что однажды отбилась от зверя клюкой (недоброжелатели распускали слухи, что это была смирная соседская лайка).
С Макеевой все и началось.
Первый шаг к известности Никита Мусин сделал в тот день, когда она умерла. Сидели вечером в кругу возле костра, болтали о диковинном и жутком, и в наступившей паузе Никита многозначительно сказал:
– Сегодня утром я наблюдал в саду прозрачную фигуру.
На него посмотрели с интересом, но без ожидаемого восторга.
– Старуху, – уточнил Никита. – Мертвую.
– С косой? – фыркнул кто-то.
– У нее свеча была, – холодно ответил Мусин. – Лицо серое, а вместо глаз… – Он выдержал паузу. – Монеты!
– Так взял бы! Курили бы сейчас «Кэмел», а не эту дрянь.
Никита натянуто улыбнулся.
Выдумывая старуху со свечой, Мусин ничего не знал о покойнице. Макеевой хватились на следующий день и тогда же установили, что она скончалась сутки назад, ранним утром.
На Никиту впервые в его жизни взглянули заинтересованно.
В тот момент Мусин еще не осознал, что за возможность ему подвернулась. Он отмочил успешный цирковой номер в луче прожектора, который на миг высветил его среди безликой толпы, и все, чего ему хотелось, – подольше оставаться в ярком круге.
– Старуха предупредила меня. – Никита понизил голос. – Сказала, что… – Мусин запнулся, пытаясь сообразить, как не попасть в ловушку собственной выдумки, – …что вскоре произойдет что-то особенное!
Если бы жизнь в Беловодье текла так же тихо и спокойно, как прежде, Никита канул бы в темноту безвестности. Но два дня спустя на трассе перевернулся рейсовый автобус.
Узнав, что никто не погиб, Никита всерьез огорчился. Авария без жертв – то же самое, что безалкогольное пиво: не настоящая.
Как многих незаметных людей, его с детства переполняло острое, почти болезненное ощущение собственной уникальности. Своей Библией Мусин назначил «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Параллели бросались в глаза. Как и дон Румата, Никита был кем-то вроде посланника развитого мира в средневековом Арканаре, с той разницей, что Румата Эсторский тащил быдло к прогрессу, а Мусин был умнее: он знал, что сеять зерна гуманизма и просвещения безнадежно и даже вредно. Ценность Руматы в том, что он единственный. А если вокруг много румат, это теряет смысл.
Никита начал исподволь внедрять в умы свое новое прозвище – Эсторский. Выводил его на тетрадях. Подписал обложку дневника: Никита Эсторский! Но тут случилось непредвиденное.
В конце сентября он вычитал, что Мусины-Пушкины – старинный дворянский род. Чего-то в этом роде Никита и ожидал. В нем, несомненно, текла кровь аристократов. Отец посмеялся над его изысканиями, сообщив, что Мусины последние сто лет крестьянствовали в Беловодье, но папаша был дурак.
Однако шуточки отца испортили Никите настроение.
Второклассник Богусевич попался под горячую руку. Не то чтобы Никита собирался его мучить, просто хотелось отвести душу, а толстяк подходил для этого, как яблоко для шарлотки: девчоночий румянец, пухлые щеки и заискивающий взгляд.
– Богусевич, ты голубой? – поинтересовался Мусин.
Жирдяй затрепетал и попытался сбежать, но Никита уцепил его за воротник.
– Мы здесь педиков не любим! – наставительно сказал он.
Тревожные шепотки, смолкшее щебетание третьеклассников: бандерлогам явился Каа.
– Оставь его, чего пристал, – промямлил кто-то из детей.
Никита встряхнул толстяка. Богусевич всхлипнул и собирался некрасиво разреветься.
– Богусевич-извращенец, – не без труда срифмовал Никита.
– Мусин-гнусин, – раздался звонкий голос.
От надругательства над своей аристократической фамилией Никита так опешил, что у него отвисла челюсть.
Дети засмеялись.
– Мусин-вонюсин, – отчеканила девчонка.
Школьники расступились, и Никита оказался лицом к лицу с Мартой Бялик.
– Глистами обожрусин! – Бялик скорчила физиономию, будто ее тошнит.
Никита молчал. Он совершенно растерялся.
– Что, зассусин? – сочувственно спросила девчонка.
Смешки перешли в хохот. Испуг детей таял, как грязный снег под лучами солнца.
Богусевич с неожиданной силой дернулся, едва не вывихнув Мусину палец:
– Не трожь!
Это было последней каплей. Никита пошел на девчонку, сжав кулаки, но, вопреки его ожиданиям, та не двинулась с места. Руки сложены на груди, на лице неописуемое презрение. Он осознал, что эта шелупонь готова драться с ним всерьез, если он не остановится.
И Мусин остановился.
– Да пошла ты, – без выражения сказал он. – Еще с девкой связываться.
Этот случай имел два последствия. Во-первых, малышня перестала бояться Никиту. Его по-прежнему сторонились, но он читал на лицах не страх, а нечто вроде гадливости.
«Во-вторых» было хуже. Сначала к нему пристала кличка «Мусин-гнусин». Затем его прекрасная аристократическая фамилия отпала, а из скорлупы гнусина вылупилась противная тварь: чья-то мстительная рука зачеркнула на дневнике великолепного «Эсторского» и вывела сверху: «Никита Гнус».
2
В одиннадцать утра Никита шел по улице Гагарина, неся портфель с нотами. Мать настояла, чтобы даже летом сын занимался с восторженной старой девой, чьи ученики годами мучили рояль – прекрасный, между прочим, Циммерман, не заслуживший всех этих во-поле-березок и рвущих душу сурков-компаньонов.
Портфель был взят для отвода глаз. Учительнице Мусин что-то небрежно соврал, зная, что проверять она не станет.
Он потоптался в универмаге, проплыл за пыльным стеклом аптечной витрины. Его видели на почте, на автобусной станции. Сторонний наблюдатель решил бы, что Никита болтается без дела, однако в действительности Мусин трудился не покладая рук, напоминая о себе на каждом углу.
Вот уже три недели город был охвачен лихорадкой. Просачивались во все щели, как сквозняки, удивительные новости: Никита Мусин был избран! Старуха Макеева назначила его своим проводником в мир живых.
Предсказав аварию с автобусом, Макеева замолчала на четыре дня. На пятый явилась снова. «Береги матерей, а пуще того – невинных чад, – велела покойница. – Раны их глубоки».
Кое-кто из старшего поколения встрепенулся, однако предупреждение было слишком туманно. Да и как беречь матерей? Им и так материнский капитал положен.
Ночью с территории хлебозавода сбежали три дворняги. Двое разбрелись по соседним дворам, чтобы переругиваться с местными лохматыми сторожами, а третья добралась до спортивной площадки при школе.
«Мама, смотри! Там собачка в кустах!»
Ребенок и женщина оказались в больнице с укусами.
«Покойница вещает через мальчика!» – разнеслось по городу.
Наконец-то Мусина заметили! В «Речных зорях» вышла статья о необъяснимом явлении. Никита, словно терминатор Т-1000, начал принимать форму, которая соответствовала подсознательным ожиданиям зрителей. Он выпросил у отца льняную рубашку и подпоясался тонким ремешком. Рубаха была ему велика, субтильный Никита казался в ней совсем хрупким. Он зачесал вперед русую челку, посмотрел в зеркало и рассмеялся: отрок Варфоломей!
В его умненькой голове все давно вызрело, обрело цвет и форму. Пусть умозрительно, но он смоделировал чудо – личное, строго индивидуального пользования. Оставалось воплотить его в жизнь.
С дворнягами ему исключительно, невообразимо повезло. Никита не имел к их побегу никакого отношения. Доподлинно установили, что собаки сделали подкоп под забором. Фантазия самого Мусина застопорилась на идее подпилить опору качелей, но он не успел. Вне всякого сомнения, его ждало бы разоблачение. Никита запоздало представил себя возле позорного столба и содрогнулся.
Следующее послание он продумал намного тщательнее: исписал три страницы, прежде чем выбрал конечный вариант. «Явится демон огненный и пожрет Беловодье, а из пепла выстроит башню до небес».
Отлично! На это они клюнут.
Никита увлеченно решал техническую задачу: как устроить дистанционный поджог, чтобы ни одна деталь не указывала на умысел. Испорченная проводка? Или свеча с горючей смесью, запаянной в восковой капсуле? Фитиль дотлевает, разлетаются огненные брызги…
Если бы кто-то сказал Никите Мусину, что то, что он собирается сделать, не совсем нормально, Никита посмотрел бы на него как на дурака. Да ведь он единственный вменяемый человек в Беловодье! Мать – клуша: одна мысль в голове и вторая за пазухой на тот случай, если забудет первую. Отец поумнее, но тоже ничего не смыслит. Они словно глупые дети, бесконечно крутящиеся на карусели. Но их сын не таков! Немного наблюдательности, щепотка расчета, капля удачливости – и его лошадь выломает металлический штырь, спрыгнет с платформы и помчит его по прямой дороге к успеху.
Никита шел по городу, улыбаясь своим мыслям. Вот-вот исполнится третье предсказание, и засияет Никита Мусин в лучистом ореоле славы – спаситель Беловодья!
– Смотрите, Мусин!
– Никита, идите скорее к нам!
Три женщины расплылись в улыбках, заметив мальчика.
– Рассказывайте! Она являлась вам снова?
Никита с таинственным видом прижал палец к губам и подался вперед. Три головы с химической завивкой склонились к нему.
– Думаю, Антонина Петровна скоро вернется. У меня… – он выдержал драматическую паузу, – предчувствие. Что-то страшное грядет…
Все ахнули.
Через дорогу к ним направилась Анна Козарь, вместе с письмами разносившая молву. Как ни странно, сплетницей она не была; Козарь не выдавала новости, не просеяв их сперва через сито своей недоверчивости. В Беловодье ее уважали и побаивались.
– У Никиты предчувствие! – взвизгнула одна из его поклонниц. – Нюточка, ты слышала?
– Духовидец! Среди нас!
Скрипучий хохот заставил их осечься; так могла бы смеяться щука, сожравшая Емелю.
Желтые зубы неисправимой курильщицы. Длинное смуглое лицо, похожее на сушеный финик. Набрякшие веки сползают на глаза, точно шляпки старых подберезовиков.
– Здравствуйте, Вера Павловна! – нестройно поздоровались все.
Шишига кивнула только Анне Козарь.
– Духовидец, значит. – Если бы яд из ее голоса можно было преобразовать в вещество, получился бы стрихнин. – Что там Макеева вещает – повысят нам пенсию, нет?
Мусин, прекрасно понявший издевку, молчал.
– Вера Павловна, случай и в самом деле уникальный…
Шишигина глянула косо, и бедную заступницу как ветром сдуло.
– Дуры! – зычно сказала она. – Этот говнюк вам головы морочит. Чуда захотелось? Чудеса не так происходят.
Говнюка Никита не стерпел.
– Зря вы так, Вера Павловна! Меня можете оскорблять сколько хотите, но Макеева не заслужила такого отношения!
– Макеева была дура похлеще этих, – отрезала Шишигина. – До девяноста лет доживают или очень умные, или совсем пустоголовые. Тебе, мальчик, славы захотелось! Еще труп не остыл, а ты его уже оседлал и в рай поскакал!
К ним начали стягиваться прохожие. Анна Козарь пристально разглядывала Никиту.
– Я виделся с Антониной Петровной, клянусь! Она приходила в наш сад и говорила со мной!
– Не бзди, пионер.
– Отчего вы мне не верите? – Голос Мусина дрогнул.
– Глазки-то бегают! – ехидно заметила Шишига. – Что у тебя дальше по плану намечено? Пожар, что ли?
Никита побледнел.
Однако страх подсказал ему верную тактику. Придав своему лицу выражение необычайной кротости, Мусин беспомощно развел руками:
– Можете считать меня фантазером или, я не знаю, шизофреником… Я бы, наверное, и сам так решил, если бы увидел себя со стороны (слабая улыбка, понимающие улыбки в ответ). Честно говоря, в первый раз я перепугался. Все, крыша едет! Но только… (запнуться, стереть улыбку, посмотреть проникновенно)… понимаете, теперь я знаю: Антонина Петровна оберегает наш город. Ведь я – ну, кто я такой? Никто! Даже учусь на тройки! А она – она наша заступница…
– За что тебя прозвали Гнусом? – перебила старуха.
От ярости у Никиты побелело в глазах. Он забыл о пытливом взгляде Козарь, забыл о восторженных зрительницах; ему хотелось лишь одного: так напугать старую тварь, чтобы она обмочилась прямо здесь и уползла в свою нору опозоренной.
– Я не хотел говорить, Вера Павловна. – Его голос непритворно дрогнул. – Клянусь, не хотел!
– Что ты там опять придумал?
– Теперь я понимаю, что должен предупредить вас… Может быть, все еще можно изменить… Если вы покажетесь врачу…
– О чем ты, Никита? – Кудрявые дуры встревожились.
– Тихо! Не мешайте ему!
Мусин набрал воздуха в легкие.
– Антонина Петровна сказала, что вы скоро умрете.
Вокруг скомкалась тишина.
Раздавшийся мгновение спустя хриплый смех смыл с их лиц почти одинаковые маски изумления, и миру явились разочарование, облегчение, недовольство. Лишь Анна Козарь сохраняла невозмутимость.
– Соври что-нибудь получше, Гнусин. Ох, прости, Мусин! – Шишига осклабилась и вдруг подмигнула ему, словно они вдвоем затеяли хорошую шутку. – Совсем памяти не стало! Значит, лет до ста проживу.
Глядя вслед удаляющейся старухе, Никита думал об одном: она должна сдохнуть в ближайшее время.