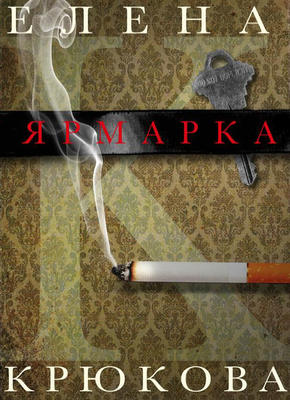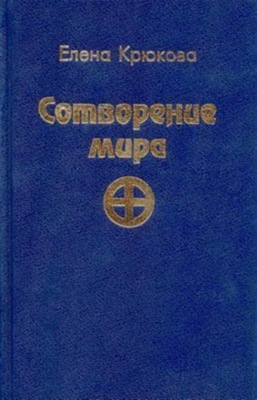Czytaj książkę: «Рай»
© Елена Крюкова, 2017
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4483-7074-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Возвращение в Рай
Философский символически-метафорический роман Елены Крюковой «Рай» был опубликован в 2015 году в журнале «День и ночь», в этом же году вышел отдельной книгой в издательстве «Литео», и теперь увидел свет в издательстве «Ridero». В этом произведении писательница верна своей творческой манере изображать человека в экстремальных условиях, соединять условно-метафорическое и натуралистическое изображение, мир реальный и фантастически-символический. Автор ставит перед собой задачу показать явные и скрытые возможности человека, ценность его жизни и ее основные противоречия и парадоксы.
Символично и очень значимо заглавие романа, потенциально погружающее читателя в некое «идеальное пространство», где человек чувствует себя защищенным, свободным, окруженным прекрасным райским садом. Мотив рая, являющегося одновременно противоположностью и абмивалентной парой аду, повторяется почти в каждом произведении писателя. При этом намечено такое конкретное воплощение мотива: «райская песня» («райское пение»), «райская красота», «райское блаженство», «изгнание из рая». Последняя мифологема дала название роману Крюковой, вышедшему в свет в 2002 году. И хотя сюжет, и идея, и повествовательная манера там принципиально отличны от романа «Рай», мы можем отметить, что обращение к образу рая, изображение жизни вне рая (где рай становится отправной точкой), являются концептуально значимыми для Елены Крюковой. Вместе с другими мотивами они возвращают нас к библейским образам, заставляя по-новому – с учетом страшного опыта ХХ века – посмотреть на природу человека, его силу и слабость, духовность и низменность, чистоту и грязь. В художественном мире писателя одно из основных чувств – тоска по раю. Причем традиционный мотив изгнания из рая трактуется писателем оригинально. Например, так: «Женщина всегда несет Адама на плечах. Вы знаете… ты знаешь, она сорвала яблоко и накормила его не потому, что змей ее совратил. Она хотела его просто накормить. Просто накормить, понимаешь?!» («Изгнание из Рая», Москва, «Центрполиграф», 2002).
В романах «Рай» и «Беллона» рай – это материнская утроба, защищающая только готовящегося появиться на свет человека от жестокости реальной жизни. Так, в «Беллоне» перед читателем воспроизводится воспоминание матери, желающей сохранить безопасность и спокойствие своего дитя: «Ты сидела и ворочалась у меня под сердцем, и я несла, я носила тебя, едва дыша, боялась грубо потревожить тебя, разбудить; ты спала, обмотанная до горла красными травками, мохнатым алым мхом, райскими розовыми водорослями, и тебе тепло было» («Беллона», Нижний Новгород, «Бегемот», 2014). В «Рае» открытие мира, напоминающего райский сад, впервые дано с точки зрения даже не ребёнка, а зародыша: «Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, стелются багровыми бархатными коврами под моим дрожащим животом тончайшие, нежные струны кровавых побегов».
Так, независимо от говорящего субъекта, в романах Елены Крюковой рай становится идеальным хронотопом, в котором человек обречен быть некоторое время («Девять месяцев? Девять веков? Девять эпох?») и из которого неизбежно будет изгнан. В романе предлагается авторская интерпретация библейского сюжета – появление жизни, основанной на любви и поддержке, из тьмы и хаоса. Здесь и развитие устойчивых языковых метафор и оборотов: «белый свет» (чаще всего палитра света – это различные оттенки белого и красного цветов), «свет в конце тоннеля» (сам процесс зачатия символически изображается как движение света: «Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нём всё мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шёлком, захлестнул ало-жёлтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал тёмным скорбным одиноким мужчиной и весь, до конца, перетёк в женский огромный, счастливый, торжественный свет»), «Божий свет». В целом же свет и тьма составляют неразрывную амбивалентную целостность, которая и обеспечивает жизнь. Только осознавший собственную самостоятельность будущий ребёнок размышляет: «Неужели в мире есть только кромешная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в её жадном, жестоком, жутком ларце?»
Свет становится спасительным для главной героини, когда ей нужно было защититься от готовых растерзать её карликов. Благодаря случайно обнаруженной в кармане отцовской зажигалке героиня не только получила возможность бежать и тем спасти свою жизнь, но и пришла к важному выводу: «Всё на свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру – а этот огонь будет жить».
Амбивалентность света и тьмы становится основой не только зарождения жизни, но и её завершения. Так реализуется апокалиптический мотив взрыва, ставшего своего рода концом света, после которого герои потеряли и материальную, и нравственную основу: «Во тьме, под жаркими кожаными шорами дрожащих век, вспыхивала далёкая зарница. Слишком светлый шар. <…> Свет опережал звук, бежал быстрее гула. Световой шар разрастался стремительно, странный призрачный жар опалял лицо и руки. <…> А из окон не будет раздаваться ни музыка, ни клёкот телепередач, ни хныканье младенцев, ни звонкий, взахлёб, девичий смех».
При обилии реминисценций и аллюзий на Библию и библейские образы и мотивы, в романе преобладает не только и не столько христианское, сколько экзистенциально-архетипическое понимание природы человеческого бытия.
Карл Густав Юнг, основоположник теории архетипа в ХХ веке, указывает, что одним из аспектов архетипа матери является «цель страстного избавления (рай, Царство Божие, Небесный Иерусалим)» (К. Г. Юнг. Психологические аспекты архетипа матери. Москва, «Наука», 1996). Кроме того, представляется необходимым обратить внимание на такой вывод учёного: «Позитивный аспект первого типа, а именно, преувеличенное развитие материнского инстинкта, это как раз тот образ матери, который воспевался и почитался во все времена и на всех языках. Это та материнская любовь, которая принадлежит к самому что ни на есть умилительному и незабвенному воспоминанию повзрослевших седин, это – тайный корень всех начинаний и превращений, который составляет молчаливую праоснову возвращений к родному очагу и поискам пристанища на чужбине, т. е. основу всяческого начала и конца» (К. Г. Юнг. Психологические аспекты архетипа матери. Москва, «Наука», 1996). Особенно активно это созидательное, преображающее начало проявляется в самом поведении главной героини, Руди, которая ради сохранения жизни ребёнка, как следует из сюжета романа, – жизни вообще – идёт на различные мучения и унижения. В ней словно просыпается первобытный животный инстинкт самки, вынужденной защитить своего ещё не рожденного детёныша. Этот инстинкт в гораздо большей степени, чем инстинкт самосохранения, заставляет героиню бить и убивать. По контрасту с этим изображена вселенская доброта и любовь женщины, способной успокоить и приручить и хищника (волка), и обезумевшую толпу молодых головорезов.
Роман «Рай» написан в жанре антиутопии. Здесь главная героиня, Рудольфа Савенко, которую повествователь чаще называет Руди, проходит своё испытание раем – вынашивание ребёнка в опустевшем, озлобленном мире. В романе пересекаются, взаимно дополняя друг друга, две точки зрения – будущей матери и будущего ребёнка. С Руди читатель впервые знакомится в части текста, озаглавленной «После жизни».
Жизнь – и в момент её зарождения, и в процессе сохранения, и даже «после жизни» – представляет собой гамму совершенно противоречивых, сложных чувств и эмоций, чаще всего экзистенциальных: страх, вина, боль, сомнения. Первое чувство, которое осознаёт зародыш, – это чувство страха, контрастное потерянной радости (сравним: потерянный рай), по которой он символически тоскует: «Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость? Говорят, жизнь – радость. Где моя жизнь?». Здесь, уже на первых страницах, впервые даётся толкование жизни, и связано оно с положительным чувством – чувством радости. Примечательно, что о радости изначально известно будущему человеку от чьего-то чужого общего мнения («говорят»), но это то сакральное знание и отношение к жизни, которое заложено в самый момент зарождения, и с этим человек проходит через всё своё существование, всё время задаётся вопросами: «Где моя радость? Где моя жизнь?». А в жизни, в самом начале, «боль и радость». Эти два чувства связывают близких людей, выражая их понимание друг друга, заботу и поддержку: «Мать старалась перелить в ребёнка все соки, всю радость, всё счастье. Снаружи боль— нá тебе радость!».
Неизбежность боли и страха, их главенствующее влияние на поступки человека не должны вытеснить в человеке любовь и радость. И если в человеке есть жизнь (не только другого человека, как в материнской утробе), значит, в нём представлена вся гамма противоречивых чувств и эмоций, у него остаётся право и необходимость выбора. При этом первичная агрессивная реакция сменяется более осознанным стремлением к взаимодействию, а не сопротивлению другим.
Изначальная заданность этих противоположных и взаимодополняющих чувств, качеств и реакций определяет циклическую концепцию мира, которая преодолевает линейную идею конца и возвращает человека к истокам. В архетипическом контексте – к рождению как «изгнанию из рая», а в условно-метафорическом – к душевной гармонии. Цикличность изначально свойственна живому существу и проявляется с самого начала в сердечном ритме, подчинённом пульсации внешнего (для «червя» – материнского) мира: «…он отзывался на удары тьмы извне; одно биение тьмы – десять биений булавочного сердечка». Это ритмическое биение потом, после рождения, станет основой дыхания: «Вдыхать. Вбирать. Впускать. Не выпускать? Всё, что войдёт внутрь, выходит наружу. Есть только выход!».
Законам цикла, который необходимо пройти всякому человеку, соответствует принцип эволюции, воссозданный автором: червь – рыба – змея – птица – зверь – обезьяна – человек. С циклической концепцией времени как основы жизни связан и мотив воспоминаний, или, скорее – вспоминания: «Она так любила осень. Не она, а та женщина, похожая на неё»; «До неё дошло. Все забыли всё. И песни тоже». Случайно обнаруженные предметы: игрушки, ноты, иголка, фотография, лопата – и случайно услышанные слова рождали у Руди память о прошлой жизни, где эти предметы и слова имели значение. В той жизни, до того, как «она умерла», она радовалась Рождеству и музыке, у неё был отец – самый близкий человек, почти вытесненный из памяти, но в момент воспоминаний преображающий её жизнь. Гораздо явственнее и важнее воспоминания плода: «У зародыша рождалась память. Это было так непонятно, сумрачно, смутно. <…> Возможно, он повторялся, и это зачатие было не первым в его судьбе; его зачинали другие отцы и вынашивали иные матери, и счастливо было заново биться булавочному сердечку, осознающему новую дорогу».
В контексте романа жизнь понимается как бесконечный цикл жизни, сменяемой смертью, и таким образом проявляющей новую жизнь. Вечна война, так как является воплощением постоянной борьбы рая и ада. Извечны страх и радость, окружающие человека. Всё начинается и заканчивается Океаном, воплощая архетипическое представление о воде как основе жизни: «Вода поможет тебе. Видишь, она ласковая. Она мать. Она всегда поймёт мать. Ты мать, и она мать».
Всё, что было и будет, по замыслу автора, постигается как вечная циклическая заданность, ценная в каждый момент бытия: «У них <…> нет жизни. Нет смерти. У них есть только одна минута. Вот этот миг. Лишь этот миг».
Жизнь, по Елене Крюковой, – постоянная борьба за существование и движение к смерти того, кто сумел победить и выжить в различных обстоятельствах: от самых обыденных до фантастических. Например: «Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слёзным маятником, терпеливо ждала его – единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер». Человечество неизменно движется к разрушению, преодолевая заданный закон жизни, убивая всё и всех на своём пути. Автор в антиутопии «Рай» словно предупреждает: если не остановиться, не вернуться к истокам, возможен такой исход: «Человек уничтожил себя сам, а ужасаться содеянному было уже некому». Главная героиня романа, спасая свою жизнь и жизнь своего ребёнка, встречает разных людей: карликов, калеку, немого, прокажённую, обезображенных войной молодых мужчин. Их физическое уродство лишь отражение уродства внутреннего, ведь они ведут себя по отношению к другим более жестоко, чем звери. На их фоне чёрный кот и дикий волк оказываются более гуманными и человечными.
Но человек не может жить изолированно от других. Несмотря на то, что Руди стремится убежать, освободиться от этих встречных, для неё и – что важнее, для автора – эти встречи сулят одновременно и опасность, и надежду. Большинство встреч подтверждает: после взрыва, после жизни, после утраты человеческого каждый сосредоточен исключительно на своем физиологическом выживании.
Но последняя встреча в романе меняет общую тональность опустошённого мира. Встреча женщины и мужчины – Руди и неизвестного. Этот мужчина оплакивал своего ребёнка, и мир снова является в своей амбивалентности: «Вот я родила. А он – закопал. Чаши весов. Смерть, жизнь. Мы никогда не поймём, что оно всё значит».
Уделяя большое внимание низменной, животной, теневой стороне человеческой природы, Елена Крюкова заставляет читателя подняться над ней и через её осознание победить её. Основа авторской концепции жизни в романе «Рай» – утверждение гуманности, любви и мудрости, отчасти данной от Бога, отчасти взращённой самим человеком. Основная идея романа заключена в финале произведения:
«—Как ты думаешь, Земля оживёт после этой бойни?
– Это от нас зависит».
Наталья Беляева, кандидат филологических наук, Дальневосточный федеральный университет, Уссурийск
Месяц первый
Зачатие
Я был двумя, и я был одним.
Разрезать тьму надвое тем, что у меня впереди.
Темный сгусток шевелится, колышется, буравит волглую, теплую туманную слизь. Густота вспыхивает искрами пустоты.
Провалы разверзаются внезапно и весело, и я ныряю в них, падая смешно и бесповоротно. Повернуть уже нельзя. Я знаю, что возврата нет, всей кожей, всей плотью, а если точнее, тем невидимым, дрожащим и бесплотным, слишком ярким, что хранится внутри меня; я знаю, что это, но не знаю этому имени.
Дрожит и плавится слепота. Зрение пробивается хилым ростком и тут же умирает. Я вижу лысой гладкой безглазой макушкой, а безумный рыбий хвост неистово бьет в плотный лед надвременного воздуха. Воздух слоится и плавится, и я, глухой, оглушен. Между мной и колышущейся пеленой торчат кости и когти, скрещиваются деревянные и железные надолбы. Чужая материя плачет и просит выхода из моей тюрьмы.
Разве я – тюрьма? Я свобода!
Свобода, ты лжешь мне. Ты лжешь себе. Я – не я, а то, что пытается быть мной. Прикидывается искусно. Я сам, настоящий и незримый, управляю движением своего узкого, как у океанского черного малька, крохотного как пылинка, скользкого тельца издали, сбоку и сверху; густое варево плотского жара, в котором я плыву и бьюсь отчаянно, вдруг разымается створками раковины, плоскими ладонями, а после ладони опять сдвигаются безжалостно, и вот я зажат между ними, и все плотней смыкаются они, и конец мне, я задохнусь и буду раздавлен.
Тишина! Красная тишина. Вынутые из мертвых рыб длинные прозрачные хорды вьются, свиваются в тугие кольца, мерцают, пытаются обвить меня и задушить. Я ловко и стремительно проскальзываю сквозь них, а они загораются тусклым, гневным алым огнем, пламя лижет меня, я становлюсь узким, тонким, игольчатым, нитяным, почти невидимым. Но странные огромные глаза поворачиваются в широких и бездонных, как страшные ямы, чужих глазницах; глаза меня видят, они видят сквозь меня, видят мои потроха и мои кости, мое время и мое безвременье, а я хочу ускользнуть от них, и не выходит удрать, исчезнуть бесповоротно: меня найдут везде, где бы я ни спрятался.
Надо выбраться на поверхность. Не надо уходить в глубину. Меня заметили. Я присмотрен.
Я обречен.
Вперед, вперед. Комок влажного тепла, багряный сгусток довременной мокроты, красная медленная слеза. Это все я; я теку, и мое время обтекает меня, оно не течет вместе со мной, оно течет навстречу мне. Мохнатые хвощи расступаются и снова смыкают резные тонкие ветви у меня над юркой спиной. Плыть, плыть! Не останавливаться!
Чьи это хищные зубы, клыки, блестят за спиной?! Мой зрячий хвост видит все. Мое зрячее брюхо мелко, постыдно трясется – капля страха плывет рядом со мной, одним гребком подплывает ко мне, нагло налегает на меня, жарко вжимается в меня. Обнимает меня. Проникает в меня. Вот я уже стал каплей страха. Где моя радость?! Говорят: жизнь – радость. Где моя жизнь?! Кровавая капля дрожит. Дрожит, не сдерживая боль и радость, мой слепой мозг, мои нелепые, торчащие серебряные плавники, мои перепончатые слабые пальцы, извивается тьма, не мной нареченная хвостом. Где перед, где зад? Я не знаю, убегаю я или прибегаю, жив я или уже умер. Все двигается! Болит! Бешено боится! Перламутром будущего дождя блестит выгиб крошечного бока. Внутри меня, под тончайшей пленкой оболочки, в сердцевине прозрачной живой плазмы, перекатываются шары будущих миров: кишки, печень, селезенка, сердце мира. Переплетенья артерий обкручивают одинокую аорту. Какой чудесный сон! Разве мир устроен так глупо и сложно, что его так просто убить, пока он еще не рожден?
Раздвигаются красные водоросли. Клонятся вниз, стелются багровыми бархатными коврами под моим дрожащим животом тончайшие, нежные струны кровавых побегов. Кровь – вода, ее можно пить жабрами. Кровь – мое море, я плыву в нем, о да, я все понял: я никогда не утону, это мой страх навек утонет, когда я в волнах красного моря встречусь с Единственной, что ждет.
Кто тебя ждет? Почему ты знаешь об этом? Ты ведь ничего не знаешь!
Нет. Я знаю все. Не меня выбрали; выбрал я. Я выбрал это чужое жаркое тело, этот полный слепо бьющейся крови живот для зачатья, но не совсем удачно.
Стены рушатся. Тучи несутся и рвутся. Горы сдвигаются, камни кричат, падая в пропасть. Но это все на воле, а я пока в тюрьме. Я за кровавой решеткой крепчайших сосудов. За крепко сложенной кладкой железных, каменных красных мышц, и древний красный кирпич непробиваем и несжигаем. Красный чугун, раскаленный металл. Это все обман. Они так хрупки, я порву их тем, что у меня впереди, моим живым и острым клином. Голова! Нет, это еще не голова. Руки? Их у меня нет. Ноги? Я превосходно обхожусь без них. За меня думает узкая скользкая спина. За меня бежит вперед и вверх моя длинная изгибистая плоть.
И прозрачный переливающийся, судорожно вздрагивающий, меняющий очертания шар – вдали, он катается в серебристом, сладком алом мареве, он ждет меня.
Счастье, когда тебя кто-то ждет.
Ожидание – воля. Движение – бессознательно. О нет, я сознаю каждый свой гребок, каждый рывок вверх и вперед. Вверх, все вверх и вверх.
Шар горит костром, вспыхивает желтыми, свечными и звездными огнями. Костер? Свечи? Звезды? Что это? Это все давно умерло. Это все умерло, не родившись. Этого нет и не было никогда. Есть только живой огненный, прозрачный насквозь шар, и он крутится в небытии и ждет тебя, а ты уже живешь.
Он упал и взмыл, перевернулся в горячем мареве раз, другой – невидимой играющей рыбой, безудержной веселой монадой. Он уже совсем близко был к той, что, колыхаясь слезным маятником, терпеливо ждала его – единственного из всех, кто опередил всех; все погибли, а он не погиб, все умерли, он один не умер. День творенья, он запоминал его тонкой кожицей, нежнейшей смертной шкуркой. Не бойся! Ничего никогда не бойся! Вот она, твоя цель, твоя мать, твоя жена, твоя любовь, твоя молитва, твоя планета, твоя вселенная! Думаешь, она пожрет тебя?! Вберет в себя без остатка? Поглотит? А разве ты сам не хочешь быть съеденным навек, а потом рожденным навсегда?
«Я не два, я одно», – услышал он глубоко внутри себя, в сплетении паутинных оранжевых жил, удар крови. Сдвоенный толчок: раз-два, и кончено. Слишком близко он уже подплыл к бесповоротному.
Что такое туда? Что такое обратно?
«Прошлого нет, и будущего тоже», – снова ударила изнутри в него, конечного, бесконечно струящаяся кровь, и он хотел остановиться, но уже не смог. Слишком разогнался; слишком взбесился. Красные пальмы и багряные лианы закрутились вокруг, пытались схватить, сцапать, туже стянуть петли. И вдруг расступились, будто кто сильный, громадный жадно протянул призрачные щупальца и одним махом разорвал тайное бешенство, сумеречный наплыв водорослевой, парчово-алой чащобы.
Пространство. Прозрачность. Окно. Воздух. Свет.
Пласты довременной воды сместились, соленый океан перестал колыхать безмерные, вольные волны. Он рванулся вперед и верх, опять вперед и вверх. Прозрачное, слепящее оказалось слишком рядом. Наползло на глаза. Слепой головой он боднул свет, и оболочка света изогнулась, подаваясь, подчиняясь силе. Вот сейчас он разорвет пелену! Войдет внутрь!
Что такое снаружи, и что такое внутри? Сейчас он узнает это.
Вдвинуться еще. Еще глубже. Еще неистовей. Нажать еще, ударить. Прогнуть. Проколоть. Порвать!
Он ощутил, как то, чем он рьяно и слепо бил сеть света, до отказа натянуло тончайшую, ячеистую ткань; раздался неслышный хруст, и голова окунулась в пустоту. Он не поверил себе. Вдвинулся глубже.
Пустота молчала. Пустота вбирала его, втягивала, всасывала. Он на миг испугался – это капля последнего страха напоследок разлилась внутри него сладким бешеным ядом, расстилая красный ковер ему под слепые глаза и глухие уши, под призрачные плавники и под счастливо дрожащий, пустой живот. Живот без потрохов. Череп без мысли. Одно лишь чувство. Удары молнии: вот! Есть! Удача!
Вперед. Вперед! Он весь, всем тщедушным тельцем, до конца, от головы до хвоста, от рожденья до смерти, втиснулся в круг счастья, в шар света. Прозрачная жидкость внутри шара обняла его и затопила. Он судорожно ловил свою выскальзывающую из головы и крови, из-под кожи и из зачатка дыханья, жизнь: умру! Умираю! Тону! Разеваю рот! Вглотну свет, а сам, обманутый, стану тьмой! – но жизнь яркой молнией обвилась вокруг него и острым гарпуном вошла точно в его затылок, в то секретное, святое место, что он, крутясь в водоворотах чужой крови и слизи, так лелеял и берег.
И он, насаженный на острие сиянья, забился в отчаянии, а отчаяние внезапно превратилось в боль, а боль стала сладостью, а сладость стала верой, а вера стала чужим огнем, а огонь потек по его нутру, а его плоть, сотрясаясь, то колыхаясь мелко и жадно, то шевелясь в крупных, медленных как беспамятство содроганьях, обратилась в проколовший его насквозь свет.
И он, не веря себе, шепнул ртом, которого у него еще не было, слово, которое он еще не знал: «Свет!»
Свет подмял его под себя. Свет проник в каждый кусок его маленькой жизни. Свет выжег в нем все мрачное, обидное, прежнее, одинокое. Свет залил его белым и золотым молоком, ярким кровавым шелком, захлестнул ало-желтой ослепительной метелью. И он, становясь светом, понимал: он весь стал ртом и целует свет; он весь стал руками и ногами и обнимает свет; он весь стал вином и перелился в свет; он весь стал темным скорбным одиноким мужчиной и весь, до конца, перетек в женский огромный, счастливый торжественный свет.
И перестал быть одиноким.
Не два? Уже не два? Одно?!
Рыба метнулась, ударила колючим носом, растопырила жабры. Плавник стал лучом и пронзил густую мглу. Снег пошел сначала медленно, нежно, потом повалил, потом закрутился, заплелся в неистовые, дикие синие вихри метели. Красная морда хищника вылезла из-под схлеста темно-вишневых и жгуче-кумачовых хвощей; золото посылалось из прищуренных жестоких глаз, зубы ждали добычи. Деревья рушились, тяжелые стволы падали справа и слева, слепо валились, задавливали черной тяжестью, брали в плен предсмертья. Кости хрустели. Дышать нельзя было, и то сдвоенное, чем стал он один, все равно дышало – всей нежной прозрачной эфемерной кожей: кожицей винограда, сизым налетом сливы, пушком персика, черно-зеленой лимфой смородины. Раскрывались легкие, раздваивался воздух: раз-два, раз-два. Раз, другой, третий, вот и вход в бесконечность. Бесконечность? Что такое? Ее можно почувствовать. О ней можно заплакать, ведь она недостижима. Ты будешь жить вечно?
Я? Я буду жить вечно?!
Я же еще не живу!
Нет, ты уже живешь.
Зацепиться. Вцепиться. Вклеиться.
Внедриться. Втиснуться. Вползти.
Ты внутри? Да, я уже внутри.
Ты во мне? Да, я уже в тебе.
Я в ней? Да, в ней, ты же сам об этом знаешь.
Назад хода нет. Ты хочешь попятиться – и не можешь. Ты хочешь опять стать собой – нет, тебя со всех сторон обхватило чужое тепло, и ты уже растворяешься, врастаешь, таешь, таешь.
Я растворюсь! Да, от тебя не останется ничего. Готовься.
Я никогда больше не буду тем, кем я был?!
Да, ты никогда не станешь, кем был. И ты станешь тем, кем назначен стать.
А кем я стану?! Кем?!
Ты хочешь это знать здесь и сейчас? Ты же не знаешь, что значит знать!
Страх невозвратности скрутил, выжал, выгнул, возжег. Тело разрывалось, ткани расслаивались и кровоточили. Мягкий хрящ хребта трещал, ломаясь, лохматые рваные края вздрагивали, пульсировали, мигали красными огнями.
Он сделал последнюю попытку повернуть искалеченное тело обратно. Напрасно! Не было того, что впереди; и исчезло то, что было сзади. Пустота, ставшая плотной бездыханной густотой, непроглядной тьмой, без искры, без молнии, без затаенной далекой зарницы, обняла со всех сторон.
Он отчаянно забился, стремясь превратиться в себя прежнего, снова стать стремлением и упорством, погоней и страстью, – а все движения стали недвижным молчаньем; все скольженья – бесстрастным, великим покоем.
Я остановился. Я больше не бегу никуда. Меня нет.
Я остановилась. Я обняла тебя. Я поглотила тебя. Не рвись. Не плачь. Ты умер. Но ты возродишься. Вот теперь. Сейчас.
Сизо, розово, ледяно мигнула подслеповатым глазом оторвавшаяся от дышащего пергамента круглая чешуя, бедная монета. Падала, летела сначала ввысь, потом вниз, в бездну. Верх и низ свободно и спокойно поменялись местами. Узкое, быстрое, длиннохвостое, хитро ныряющее тельце слилось, любовно и неразъемно, с шаровидной монадой, то и дело меняющей форму и объем: то больше, то меньше, то раздуется, то опадет, то увеличится опять, набухнет светлым соком, ненароком порвется жалкая, нищая, непрочная оболочка, и в соленый красный океан брызнет живое последнее золото. Разве нищета – это не богатство? Разве последний – это не первый?
Обнявшись, став друг другом, они, соединенные теперь уже навсегда, плыли в густой соли, в лучистом молоке, в темно-алом отваре жизней, бывших когда-то и надвигающихся из пропастей времен, из ущелий столетий. Они кувыркались и кружились, прочерчивали внутри багряной толщи золотой яркий след, и за следом тянулись, клонились, обвивали истончающийся призрак света красные вьюны, красные мхи, красные ламинарии. Мир красный! Мир сияющий! Ставшие одним, они жили теперь одной жизнью и проживали одну жизнь: и все их внутренности были видны на просвет, все до единой, и все их будущие мысли видны, и будущие слезы, и будущее отчаяние. Летим вперед и вверх! Вперед и верх! Где наш дом? Нет у нас дома. Где наше пристанище? Нет его у нас. Мы вечные путешественники. Мы катимся по красной дороге крови, купаемся в красных струях, и тот, кто держит нас внутри, в красной горячей влаге, еще не чувствует нас.
Тот? Или та?
Может быть, бог – это женщина?
Два тела, мужское и женское, бились и сплетались, сквозь разорванную серую и грязную одежду просвечивала белизна. Тесто взошло и опало. Поднималось опять. Грязные раскаленные кирпичи печи медленно остывали. Мужчина уже долго был в женщине, и все никак не мог добраться до последнего сдавленного крика, до последнего мгновенья, за которое не жалко и жизнь отдать. Тем более, что жизни у них у всех уже отобрали силой, разом, бесповоротно. Длинное и жесткое грубо и нетерпеливо вонзилось в мокрое, кровавое и разверстое, колотилось о стенки, о горячее сладкое дно. Вспоротая лютой болью плоть женщины все сильнее, жарче сжимала жесткую мотыгу мужчины – так потный кулак сжимает сломанную на ходу ветку. Войти и выйти, войти и выйти, да, вот так, и еще так, и еще.
Горячее сомкнулось с горячим. Мужчина все еще не выпускал наружу свое семя; не мог или не хотел? Женщина извивалась под ним, ее тонкое тело превратилось в скользкое, долгое туловище хитрой змеи, и обе руки змеями ползали по спине мужчины, сминая и задирая рубаху, жестоко карябая ногтями кожу над ребрами и лопатками.
А два горячих маленьких умалишенных тела, срамные придатки тел важных и больших, уже давно слиплись двумя кусками теплой глины. Они, дергаясь и скользя, приняли форму друг друга – круглое стало длинным, как время, длинное раздулось, соперничая с планетами и звездами. Оба были залиты слепой густою кровью, но им это уже было все равно. Соединяясь и бешено вращаясь, маленькие тела понимали: сейчас, вот сейчас они сомкнутся совсем, спаяются, сольются, и тогда уже не понять будет, кто первый из них родит свет – они оба набухли, набрякли светом, свет рвался изо всех пор, свет застилал все черные страшные дыры.
Неужели в мире есть только кромешная тьма? А свет хранится внутри тьмы, в ее жадном, жестоком, жутком ларце?
Влажный шар чуть приоткрылся, и темя наглой, безумной кометы немедленно проскользнуло в подобие отверстия. Живые зубы мрака жадно и нежно прикусили полоумно катящийся небесный желток, пытающийся раздвинуть, разорвать шелковую соленую завесу. Тесно переплетшиеся змеи крутились колесом, целовались, убивая. Смерть мерцала слишком близко. Ее можно было увидеть, погладить ладонью, прикоснуться к ней щекой, животом.
Женщина изогнулась слишком сумасшедше, искрутилась похлеще циркачки: вывернулась наизнанку чулком, образовала вместе с хрипящим на ней человеком живую ленту Мебиуса. И тогда внутри маленькой наглой золотой рыбы, все бьющей и бьющей острой головой в кровавый бубен вечной тьмы внизу женского живота, оборвалась крепкая невидимая нить, удерживающая жидкость жизни. Взрыв выбухнул, порвал кожаные постромки и петли синих и алых сосудов; лава потекла радостно и освобожденно, вместе с гулким и звонким, потом страждущим, хриплым криком из расширившейся в торжествующей судороге глотки.