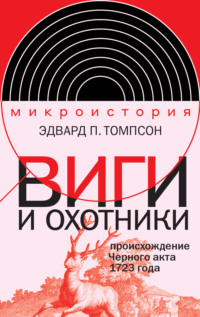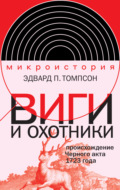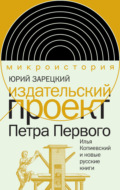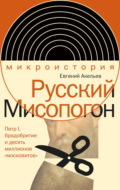Czytaj książkę: «Виги и охотники. Происхождение Черного акта 1723 года»
E. P. Thompson
Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act
© E. P. Thompson, 1975
© Н. Л. Лужецкая, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
О российском издании книги Эдварда Палмера Томпсона «Виги и охотники» 1
Евгений Акельев, Михаил Велижев
В ноябре 2022 года редакторы серии «Микроистория» обратились к Карло Гинзбургу с вопросом: какую классическую «микроисторическую» монографию, неизвестную российской читающей публике, он бы посоветовал перевести на русский язык в первую очередь? В ответ Гинзбург рекомендовал нам издать книгу Э. П. Томпсона «Виги и охотники: происхождение Черного акта 1723 года».
Вряд ли Гинзбург мог знать, что Эдвард Палмер Томпсон (1924–1993)2, один из самых влиятельных историков XX века, оказавший несомненное влияние как на итальянскую микроисторию3, так и на Alltagsgeschichte4, российской публике совершенно неизвестен: на русский язык не переведена ни одна его работа! Но все же выбор Гинзбурга нас несколько удивил. Действительно, монография «Виги и охотники» была напечатана в 1975 году, когда микроистория как особое методологическое поле еще не сформировалась5. Насколько публикация этой книги уместна именно в книжной серии «Микроистория»?
Вспомним, что 1975 год в мировой историографии – год особенный. Именно в этом году Эммануэль Ле Руа Ладюри опубликовал свою знаменитую книгу «Монтайю», в то время как Гинзбург готовил к печати монографию «Сыр и черви» (1976). Обе работы, давно и хорошо известные российскому читателю6, впоследствии станут «микроисторической» классикой. Эти экспериментальные книги предлагали читателю непривычный взгляд на анализируемый предмет. Приближенный масштаб исследования позволял в мельчайших деталях реконструировать социальные отношения, ментальность и структуры повседневности в маленькой окситанской деревушке начала XIV века (в случае Ле Руа Ладюри) или картину мира одного итальянского мельника XVI века (в случае Гинзбурга), увидеть то, что при более дистанцированном наблюдении заметить невозможно. Между тем в тот момент сами авторы еще не знали, что их книги скоро превратятся в работы, с которых будет отсчитываться начало нового исторического направления. К таким же образцам «микроистории до микроистории», несомненно, следует отнести и книгу Томпсона, которую читатель держит в руках.
Но прежде чем познакомить читателя с «Вигами и охотниками» и пояснить, почему монографию Томпсона справедливо поставить в один ряд с великими книгами Ле Руа Ладюри и Гинзбурга, необходимо вкратце описать историю ее появления на свет.
В 1965 году Томпсон, к тому времени уже прославившийся своей новаторской книгой «Становление английского рабочего класса» (1963), получил возможность создать в Уорикском университете Центр изучения социальной истории (Centre for the Study of Social History), который он сам и возглавил7. Сотрудники Центра приступили к реализации очередной новаторской идеи Томпсона – исследованию социальной истории преступности в Англии XVIII века, предполагавшему комплексное изучение уголовных законов, государственной идеологии и народных представлений о социальной справедливости. В качестве результата проекта планировалась совместная книга, которая была опубликована в 1975 году: речь идет о давно ставшем классическим сборнике статей «Роковое дерево Альбиона: преступление и общество в Англии XVIII века»8. Для этой книги Томпсон должен был написать статью о происхождении так называемого Черного акта 1723 года.
Черный акт – это уголовный закон, принятый английским парламентом в нескольких чтениях в мае 1723 года и значительно расширивший применение смертной казни в отношении имущественных преступлений. Акт был направлен против браконьеров, которые чернили свои лица (поэтому их называли «черными») и вторгались в частные леса, в том числе в королевские резиденции, где охотились на оленей и другую живность, одновременно с этим уничтожая знаки собственности и прочую инфраструктуру владельцев: ограждения, загоны для скота и прочее. Черный акт – это самый суровый уголовный закон, причем не только в истории Англии, но, может быть, и во всей европейской истории раннего Нового времени. По этому закону можно было отправить на виселицу любого пойманного в частном лесу человека, имевшего какие-либо признаки маскировки. В английском парламенте, принявшем этот драконовский закон, в то время доминировали виги (откуда и название – «Виги и охотники»).
Томпсон взялся написать для «Рокового дерева Альбиона» статью о происхождении этого печально известного уголовного закона. Однако в ходе исследования он оказался настолько увлечен многочисленными деталями этой истории, что работа растянулась на много лет, а итогом стала не статья, а солидная книга9.
Осмысляя в предисловии к монографии свой опыт, Томпсон назвал исследование экспериментальным, отличающимся от классической модели научной монографии. Действительно, как правило, историки, прежде чем приступить к исследованию, читают научную литературу об исследуемой эпохе, стремясь усвоить сложившиеся в науке представления об историческом контексте; а только потом, в ходе работы с источниками, они вносят собственные корректировки в общие научные представления о предмете. Томпсон поясняет, что проводил свое исследование совершенно иначе:
Я был похож на парашютиста, приземлившегося в неизвестной местности: освоив сначала всего несколько ярдов земли вокруг себя, я постепенно расширял свои вылазки во всех направлениях… Один источник приводил меня к другому; но и каждая рассматриваемая проблема влекла за собой следующую. Охотники на оленей в Виндзорском лесу привели меня к лесным властям, к царедворцам с их парками, а от них к Уолполу [глава правительства. – Е. А., М. В.], к королю (и к Александру Поупу [поэт, противник вигов. – Е. А., М. В.]). Охотники на оленей в Хэмпшире – к епископу Трелони и его управляющим… Охотники же на оленей в окрестностях Лондона гораздо более прямыми путями, чем можно было ожидать, снова привели меня к Уолполу. Продолжая каждую линию исследования, я откладывал на довольно позднюю его стадию свое знакомство с имеющимися трудами историков10.
Подчеркнем, что речь идет не об экономии времени или лени (написание этой книги стоило Томпсону «пяти или шести» лет жизни и огромных усилий!), а о сознательной исследовательской стратегии, обусловленной стремлением «увидеть английское общество 1723 года таким, каким видели его сами жители, „снизу“»11. Именно поэтому историк до последнего «избегал попытки описания общества в целом – так, как я бы мог представить его на основе разработок предшественников»12.
Здесь стоит заметить, что само выражение «история снизу» (history from below) было придумано Томпсоном за несколько лет до написания «Вигов и охотников»: так он назвал обзор литературы по рабочей истории, опубликованный в литературном приложении к журналу «Таймс» в 1966 году13. И это выражение закрепилось в историографии, обозначив целое научное направление, начало которому положила упомянутая выше книга Томпсона «Становление английского рабочего класса» (1963). Новаторство этой книги заключалось в том, что Томпсон предложил совершенно новый взгляд на историю рабочих. До Томпсона историки писали о рабочем классе преимущественно с позиции власти, причем многие делали это, даже того не осознавая, а просто следуя за источниками: прессой, делопроизводством, статистикой, которая создавалась в органах власти для обслуживания их интересов. В отличие от такого взгляда, который можно назвать «историей сверху», Томпсон первым поставил задачу рассмотреть значимые социальные процессы «снизу», то есть с позиции народных масс. Книга «Виги и охотники» развивает этот подход. И именно здесь мы видим сходство теоретических принципов Томпсона с методологической программой микроисториков. Известный историк и специалист по историографии Франческа Тривеллато пишет по этому поводу:
Томпсон всегда подчеркивал глубокую связь между собственной научной и политической деятельностью… Однако куда реже он признавал, что в 1960-е и 1970-е годы его объединяли с известными историками, специалистами по континентальной Европе, начиная с Натали Земон Дэвис и Карло Гинзбурга, общая тема (народная культура в Новое время) и общий метод (инструментарий культурной антропологии). Подобно Томпсону, эти специалисты стремились услышать голоса неграмотных или малограмотных крестьян внутри обширного корпуса письменных и визуальных свидетельств… Подобно Томпсону, они намеревались освободить крестьян от «чрезмерно снисходительного отношения потомков» [выражение самого Томпсона. – Е. А., М. В.], избавить от обвинений в атавизме и иррациональности, категорий, в рамки которых их заключили тогдашние элиты и последующие исследователи фольклора. Однако, в отличие от Томпсона, континентальных историков больше интересовал синхронный анализ, нежели стремление датировать переход к капиталистической модерности14.
«Виги и охотники» позволяет несколько скорректировать последнее утверждение Тривеллато: в этой книге Томпсона мы видим прежде всего работу с синхронией, с событиями, происходившими в ограниченный отрезок времени, с использованием метода «thick description», «насыщенного описания», если пользоваться терминологией американского антрополога Клиффорда Гирца15. Как нам представляется, именно сближение подходов социальной истории и культурной антропологии в монографии Томпсона и делает это исследование актуальным для микроисторической традиции16.
Впрочем, монография Томпсона – это не только «история снизу». Это еще и филигранное исследование процесса появления и практического применения отдельного уголовного закона под микроскопом, в мельчайших деталях. Для этого автору потребовалось привлечь огромное количество документов, преимущественно архивных. Любопытно отметить, что известный американский юрист и политический активист Стотон Линд, который повстречался с Томпсоном на одном приеме в Нью-Йорке в 1966 году, запомнил, как известный британский историк-марксист с презрением говорил о своих коллегах-историках, «не развязавших ни единой веревки от архивных папок с рукописями». «В моей голове возникла картина: в British Home Office лежат стопки с рукописями, каждая из которых перевязана веревкой», – вспоминал о Томпсоне Линд17. При написании книги о Черном акте Томпсон развязал сотни таких веревок с рукописями. Количество архивохранилищ Великобритании, которые ему удалось исследовать, поражает воображение.
Проанализировав в мельчайших деталях исторический, социально-экономический и политический контекст появления Черного акта, а затем и практику его применения, Томпсон приходит к неожиданному выводу. Столь суровый закон, направленный на защиту собственности верхушки общества, вовлек в дискуссию о законах и справедливости широкие слои населения. Принявшие акт виги стремились к тому, чтобы «создать образ правящего класса, который сам подчинен верховенству закона и легитимность которого основана на справедливости и универсальности этих правовых форм». Но в итоге сильные мира сего стали «пленниками своей собственной риторики»: «они играли в игры власти по правилам, которые их устраивали, но они не могли нарушать эти правила, иначе вся игра была напрасна». Таким образом, Черный акт имел неожиданный «отложенный эффект» для «множества мужчин и женщин, которые сами фактически пользовались правами мелкой собственности или землепользования в сельском хозяйстве – правами, определение которых было немыслимо без форм закона»18.
Так тщательное исследование дотошного историка-марксиста Томпсона позволило отвергнуть тезис структурного марксизма о том, что право – это надстройка, которая служит исключительно тому, чтобы правящий класс поддерживал собственное господство. Исследование Томпсона убедительно показывает, что в Англии XVIII века это было совсем не так. Создание пусть и жестких, но единых для всех правовых рамок способствовало торжеству принципа законности в английской общественной системе, что в конечном счете привело к ограничению произвола самой правящей элиты.
Наконец, следует обратить внимание и на другую особенность стиля Томпсона, которая, как нам кажется, необычайно сближает его метод с подходами итальянских микроисториков: это постоянная рефлексия над своей работой, стремление подняться над материалом и понять, что дает взгляд на историю «снизу» для осмысления крупных исторических проблем. Приведем одну цитату из книги:
…я сижу в своем кабинете, в возрасте пятидесяти лет, стол и пол завалены кипами накопившихся за пять лет выписок, ксерокопий, забракованных черновиков, часы снова показывают за полночь, и в момент озарения я вижу себя ходячим анахронизмом. Зачем я потратил эти годы на выяснение того, что в основных чертах известно и без всякого исследования? И не все ли равно, кто давал пастору Пауэру его инструкции, какие формулировки привели Вулкана Гейтса на виселицу и как безвестному ричмондскому трактирщику удалось избежать смертного приговора, уже вынесенного служителями закона, премьер-министром и королем?19
Ответом на эту серию вопросов служит сильный концептуальный тезис о двояком характере закона как инструменте угнетения и как интеллектуальной среды, в которой формируется мировоззрение английских граждан (об этом мы уже писали выше). Таким образом, Томпсон выходит на метауровень, не только размышляя о своем материале, но и показывая, как происходит в исторических исследованиях переход от микро- к макроуровню, когда исключение из правила высвечивает новые аспекты самого правила, а отдельный случай выводит на значимые обобщения. В этом смысле Томпсон оказывался прямым предшественником микроисторического метода, который, напомним, вовсе не сводится к подробному и тщательному анализу отдельных эпизодов или текстов прошлого, но состоит в приеме, которым так славятся Карло Гинзбург, Джованни Леви и Натали Земон Дэвис: подниматься от частного к общему, выдвигая на основе case studies гипотезы о «больших» проблемах исторической науки и затем строго проверяя свои предположения.
– Господи Иисусе! – сказал сквайр. – Вы хотите отправить двух человек в смирительный дом за какую-то ветку? – Да, – сказал адвокат, – и это еще большое снисхождение: потому что, если бы мы назвали ветку молодым деревцем, им обоим не избежать бы виселицы.
Генри Филдинг. История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса [пер. Н. Вольпин]
Предисловие
Эта книга в некотором смысле является экспериментом в историографии, впрочем – экспериментом такого рода, который вряд ли может встретить одобрение. Пять или шесть лет назад, когда я работал в Уорикском университете, наша группа приступила к подготовке книги по социальной истории преступности в Англии XVIII века. Я опрометчиво вызвался представить статью о происхождении Черного акта. Я ничего о нем не знал, но важная роль этого закона в истории права XVIII века навела меня на мысль о том, что для нашей работы в целом было бы крайне необходимо все-таки что-то выяснить. Я предполагал, что должно сохраниться достаточно документов, позволяющих без особых затруднений написать краткое исследование.
Это предположение оказалось неверным, и возникли значительные сложности. Юридическая документация центральных судебных инстанций, касающаяся процессов над «черными» браконьерами, была утеряна. Минимальная информация о них содержалась в единственном памфлете того времени. Пресса публиковала лишь скудные сообщения, причем некоторые из них оказались ложными. Очень непросто было составить хотя бы простое изложение событий. (И я до сих пор не уверен, что мне это удалось.) Еще большие сложности представлял их взвешенный анализ, потому что не только сами эти события, но и их контекст были утрачены для исторического знания. Так, данные прессы и разрозненные сообщения в официальных документах указывали на то, что Виндзорский лес стал центром каких-то беспорядков. Мне показалось, что эти инциденты свидетельствуют о недовольстве жителей лесных районов действием лесного законодательства. Но все авторитетные труды убеждали меня в том, что всякая власть закона в лесу (суды Суанимота20 и т. п.) прекратила существование во времена Английской республики21 и с тех пор никогда не возобновлялась. Поэтому мне пришлось начать с самого начала и реконструировать систему управления лесами, существовавшую в 1723 году. Аналогичным образом обнаружилось, что уолтхэмские «черные» браконьеры питали особую неприязнь к сменявшим друг друга епископам Винчестера, но по каким причинам – совершенно неизвестно, и вообще, об управлении и финансах церкви в начале XVIII века писали очень мало. Следовательно, снова обозначилась необходимость реконструировать теперь уже систему епископской администрации, чтобы понять, какое отношение к ней могли иметь «черные» браконьеры.
Особенно рискованными эти попытки делало то обстоятельство, что я не очень много читал о проблемах социальной истории до 1750 года и не занимался их изучением. Большинство историков в подобной ситуации благоразумно воздерживаются от таких авантюр. Обычно, приступая к новому исследованию (или параллельно с ним), человек очень много читает о рассматриваемом периоде, усваивая готовый контекст, предложенный предыдущими историками, даже если в результате своей работы он способен внести изменения в этот контекст. Я решил работать по-другому. Я был похож на парашютиста, приземлившегося в неизвестной местности: освоив сначала всего несколько ярдов земли вокруг себя, я постепенно расширял свои вылазки во всех направлениях.
Можно сказать, что три четверти этой книги (поскольку мое эссе вскоре стало слишком обширным для коллективной работы) основаны на рукописных источниках. Один источник приводил меня к другому; но и каждая рассматриваемая проблема влекла за собой следующую. Охотники на оленей в Виндзорском лесу привели меня к лесным властям, к царедворцам с их парками, а от них к Уолполу, к королю (и к Александру Поупу). Охотники на оленей в Хэмпшире – к епископу Трелони и его управляющим, к Ричарду Нортону – чудаковатому смотрителю Бира, и снова к Уолполу и его приспешникам. Охотники же на оленей в окрестностях Лондона гораздо более прямыми путями, чем можно было ожидать, снова привели меня к Уолполу. Продолжая каждую линию исследования, я откладывал на довольно позднюю его стадию свое знакомство с имеющимися трудами историков. Оказалось, что их очень мало, – конечно, пока я не добрался до литературы об Уолполе и о королевском дворе: здесь мое обращение к другим специалистам было вполне предсказуемым.
Мое начинание может показаться не столько «экспериментом в историографии», сколько попыткой кое-как довести дело до конца. Но я надеюсь, что оно представляет собой нечто большее. С тех пор как я прикоснулся к историям простых жителей лесных районов и по отрывочным свидетельствам их времени проследил те линии, которые связывали их с властью, сами источники заставили меня увидеть английское общество 1723 года таким, каким видели его сами жители, «снизу». Почти до конца этой книги я избегал попытки описания общества в целом – так, как я бы мог представить его на основе разработок предшественников. Конечно, я не могу претендовать на то, что подошел к этой теме без предвзятых мнений и заранее определенных суждений: разумеется, я не ожидал найти неиспорченное общество, в котором царит полная справедливость. Но метод и источники оказывали на мои заранее сложившиеся взгляды определенное влияние. Поэтому когда в последних главах этой книги я довольно мрачно смотрю на Уолпола, барона Пейджа или лорда Хардвика, как и на правовую систему и идеологию вигов в целом, то может быть, я вижу их почти такими, какими видел их тогда Уильям Шортер, фермер из Беркшира, или Джон Хантридж, владелец ричмондского постоялого двора.
Я не сомневаюсь, что специалисты по социальной истории начала XVIII века призовут меня к порядку, и весьма справедливо, за то, что иногда я совершал неумелые самодеятельные вылазки на их поле, и за то, что рассматривал вигов вразрез с принятыми по отношению к ним нормами. Не все англичане в 1723 году были мелкими лесными фермерами или «арендаторами по обычаю», и, без сомнения, попытка написания истории, увиденной их глазами, позволяет составить яркую, но необъективную картину прошлого. Кому-то, наверное, администрация Уолпола принесла пользу; но, прочитав большинство официальных документов и дошедших до нас газет за 1722–1724 годы, я так и не понял, кто бы это мог быть, кроме кружка собственных креатур Уолпола.
Я пишу это, чтобы подразнить профессора Пламба22 и его последователей, труды которых многому меня научили. По крайней мере, работа по реконструкции дала результат, который всегда доставляет историку некоторое удовольствие. Она сделала нашим достоянием события, которые не только были утеряны для истории, но даже оставались, в сущности, неизвестными их современникам. Кое-что, конечно, они об этом знали: случайные обрывки слухов запечатлелись в частных документах, а значит, в обществе циркулировало гораздо больше информации, чем Уолпол разрешал публиковать в прессе. При этом изрядная часть ее была известна Уолполу, Таунсенду и Пакстону. Но даже они не подозревали ни о том, что писал преподобный Уилл Уотерсон в своей личной записной книжке, ни о том, как их преемники в будущем использовали Черный акт в новых обстоятельствах. В итоге получилось изложение хода событий, во многом уступающее тому, что было известно их современникам, но в каких-то отношениях превосходящее их знания.
Я пытался писать книгу в основном в таком же порядке, в каком вел свои исследования. Во-первых, здесь представлены контекст происходившего в Виндзорском лесу, последовательность событий и их анализ. Во-вторых, почти такая же процедура проделана в отношении истории лесов Хэмпшира и уолтхэмских «черных». Наконец, мы постепенно переходим к рассмотрению политических шагов и идеологии вигов в целом, а также к людям, которые разрабатывали Черный акт, и к закону, который они создали.
Настоящая работа изначально планировалась как раздел в сборнике исследований «Роковое древо Альбиона», который вышел в 1975 году под редакцией Дугласа Хэя, Питера Лайнбо и моей (Albion’s Fatal Tree, Allen Lane, 1975). И хотя она слишком разрослась для этой книги, во время ее подготовки я постоянно извлекал пользу из совместных дискуссий, обмена ссылками и критическими замечаниями, которые и послужили толчком к моему исследованию. Особенно помогали мне мои соредакторы, снабжая меня информацией и читая первоначальные наброски; помощь также оказывали все участники расширенного семинара, организованного в Центре изучения социальной истории Уорикского университета. В частности, я должен поблагодарить Дженет Нисон за указания на публикации в «Нортгемптон Меркьюри» и в других изданиях, Малкольма Томаса за библиографические рекомендации и Памелу Джеймс, напечатавшую на машинке окончательный вариант книги. Мой старый друг Э. Э. Додд выполнял для меня различные исследовательские поручения в Государственном архиве и в архиве графства Суррей. Говард Эрскин-Хилл, Тревор Гриффитс и Джон Битти были столь любезны, что прочитали мою рукопись и сделали замечания, а Пэт Роджерс (с которым я скрещиваю шпаги в тексте) держал меня в курсе своей собственной работы.
В ходе моего исследования десятки людей терпеливо отвечали на мои запросы, и я должен извиниться за то, что не смогу поблагодарить их всех по отдельности. Миссис Элфрида Мэннинг из Музейного общества Фарнхэма особенно помогла мне; я должен также поблагодарить преподобного Фрэнка Сарджента, ранее служившего в Бишопс Уолтхэме; миссис Монику Мартино из того же города; мистера А. П. Уитекера, городского архивариуса Винчестера; мистера Чарльза Ченевикса Тренча; мистера Джорджа Кларка (за сведения о виконте Кобхэме); мистера Джеральда Хаусона; мистера Дж. Ферарда и миссис Памелу Флетчер Джонс.
Джон Уолш, Эрик Джонс и А. Р. Мичелл прислали мне полезные справки. Особую благодарность я выражаю тем людям, которые позволили ознакомиться с их архивами и использовать их материалы: я должен выразить признательность за милостивое разрешение Ее Величества Елизаветы II ознакомиться с документами Стюартов в королевских архивах, а также с книгами приказов констеблей в ее библиотеке в Виндзорском замке; поблагодарить главу и членов совета колледжа Сент-Джонс в Кембридже и колледжа Крайст-Черч в Оксфорде; достопочтенного графа Сент-Олдвина (за документы Чарльза Уизерса, а также за разрешение воспроизвести портрет Уизерса, который висит в резиденции Уильямстрип Парк); маркиза Чамли за доступ к собранию документов сэра Роберта Уолпола из его резиденции в Хоутон Холле, ныне хранящемуся в библиотеке Кембриджского университета; маркиза Дауншира за разрешение ознакомиться с перепиской Трамбулла в архиве Беркшира; декана и капитула Винчестерского собора; Его Светлость герцога Мальборо (за документы Сары, герцогини Мальборо, и графа Сандерленда во дворце Бленейм); секретаря городского управления Виндзора за доступ к документам городского архива; и мистера Ричарда Аллена, директора школы Ранелаг в Брэкнелле (за записные книжки Уотерсона). Я должен также поблагодарить хранителя библиотеки Генри Э. Хантингтона (Сан-Марино, Калифорния) и мисс Энн Кейгер, помощницу архивариуса, за то, что прислала мне копии материалов об Энфилд Чейз из собрания Стоу в фонде документов Бриджеса. Я также в большом долгу перед библиотекарями, архивариусами и персоналом как вышеназванных, так и перечисленных ниже учреждений: Британской библиотеки, Бодлианской библиотеки, Библиотеки Кембриджского университета, Справочной библиотеки в Рединге, Государственного архива; архивов графств Беркшир, Хэмпшир, Суррей, а также архивов Мидлсекса, Норфолка и Норвича, Западного Сассекса и Оксфорда; перед сотрудниками городского архива Портсмута, Кабинета грамот в Гилдфорде, библиотеки Ламбетского дворца; Национального реестра архивов, Королевской комиссии по историческим рукописям и библиотеки Ноттингемского университета (фонд документов Портленда). Особенно много помогали мне (как по переписке, так и во время нескольких личных посещений) хранители и их помощники в архивах Беркшира и Хэмпшира, а мисс Хейзел Олдред в Хэмпширском архиве привлекла мое внимание к нескольким документам, которые в противном случае я бы пропустил. Копии документов, защищенных авторским правом короны, из Государственного архива публикуются с разрешения контролера Канцелярии Ее Величества, и я выражаю благодарность Государственному архиву за разрешение воспроизвести карту Виндзорского леса.
Вустер, апрель 1975