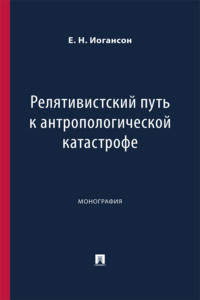Książki nie można pobrać jako pliku, ale można ją czytać w naszej aplikacji lub online na stronie.
Czytaj książkę: «Релятивистский путь к антропологической катастрофе. Монография»
© Иогансон Е. Н., 2024
© ООО «Проспект», 2024
* * *
Автор:
Иогансон Е. Н. (Лондон, Великобритания), историк (MA, PhD), философ, автор ряда работ по проблемам истории, философии, политологии.
Рецензенты:
Бушуев В. Г., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник РАН;
Гранин Ю. Д., доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
Предисловие
События XIX века принесли Европе значительные достижения, связанные прежде всего с развитием промышленности, науки и техники. К концу века Западная Европа уже могла воспользоваться преимуществами индустриализации. Промышленный переворот неизменно дает импульс социально-экономическим переменам. В это время появляется рекламная индустрия, создается сеть розничных магазинов. Процветающее мануфактурное производство, новые торговые пути, широкое распространение средств массовой информации, меняющиеся тенденции моды делают жизнь более комфортной. Значительные преобразования в экономической и политической жизни происходят не только у европейцев, но и у американцев. Несомненно, имелись и проблемы. Достаточно вспомнить волну национальноосвободительного движения, прокатившуюся по Европе в первой половине XIX века.
Однако все эти проблемы носили как бы внешний характер по отношению к развивавшимся в обществе глубинным процессам. На протяжении следующего, XX столетия стали происходить качественно иные изменения, когда начали пересматриваться устои миропорядка, а главное, ставиться под сомнение императивы морали и нравственности. Несмотря на значительное повышение уровня комфорта и материального благополучия, достижения в науке и технический прогресс, в Европе возникли кризисные явления, связанные с попытками переосмыслить буквально все и вся в окружающей действительности. Прогресс сделал жизнь комфортной, но дестабилизировал сознание людей. Ощущение надвигающегося кризиса было связано, прежде всего, с переосмыслением самой идеи Человека и основ мироустройства.
Наряду с научно-техническим прогрессом происходят кардинальные изменения в области духовной и интеллектуальной жизни Европы. Достижения науки и техники стремительно подменяли многие христианские ценности, ничего, в сущности, не предлагая взамен. В секуляризованной Европе господство рационализма и материалистического мировоззрения затмевают сферу духовности, способствуя утверждению сциентистского понимания человека.
В таком духовном состоянии Запад вступил в XXI век, постепенно трансформируя прежние сомнения и настроения нигилизма в абсолютное зло. Конечно, никакая трансформация в духовной сфере не происходит сама по себе на пустом месте. Этому предшествует возникновение определенных причин, связанных, в первую очередь, с переменами в религиозном сознании людей.
В этой книге предпринимается попытка проследить и осмыслить истоки и причины морального бунта, нигилизма и скептицизма, охватившего Европу в ХХ веке, который привел весь Западный мир к духовно-нравственной деградации. Каковы истинные причины того, что некогда христианский Запад встал на деструктивный путь саморазрушения, отказался от идеи человека в пользу нечеловеческого мира?
Автор видит причины трансформации современного западного мира в откровенное зло в релятивизме как господствующей мировоззренческой позиции секуляризированного социума, отрицающего объективные критерии морали и нравственности. Обезбоживание привело к господству релятивизма.
В книге рассматриваются проблемы взаимоотношения человека и техники, техникоцентрическое отношение к человеку, гендерная революция, проблема коммуникативного поворота, постмодернизм как духовное состояние Запада, трансгуманизм, антиантропологизация западной философии. Все эти проблемы – симптомы антропологической катастрофы, трансгрессивного преодоления антропологических констант.
Эта книга предназначена для всех, кто интересуется философией и задумывается над тем, что происходит в мире, кто пытается понять глубинную суть, выявить изнанку происходящего.
Глава I. Деструкция человеческого мира
Мы живем в эпоху человеческой деструкции. Человечество оказалось в ловушке бессмысленности. Советский философ М. Мамардашвили видел сущность антропологической катастрофы в невозможности придать смысл происходящему.
В современном мире, перенасыщенном информацией и коммуникативными интеракциями, происходит много событий, но мало смысла. Информация – это знание чего-либо, но знать не означает понимать. Для того чтобы понимать, необходимо мыслить самостоятельно. Самостоятельное мышление требует не «экспертного мнения», а напряжения внутренней жизни, духовной работы, особых интенций, побуждающих к поиску смысла и значений.
Мыслит самостоятельно тот, у кого есть сознание, кто неравнодушен. Нельзя быть в сознании и быть подлым. Зачастую триггером мышления является чувство недовольства, вопрошание, которое есть главное условие критического мышления. Никакое событие не имеет смысла, пока оно не осознано, не осмыслено. Критическое мышление есть одна из функций сознания, благодаря которому мы придаем смысл происходящему и противостоим нонсенсу внешнего мира.
Современное человечество стремительно трансгрессирует, преодолевая сакральность запретов, погружаясь в царство темноты, где стираются различия между правдой и ложью, где требуют толерантности и мира, но не перестают санкционировать (наказывать) тех, кто не вписывается в картины сильных мира сего, где меньшинство, страдающее патологическими отклонениями, диктует большинству. Запад почему-то решил, что существует много истин, хотя истина может быть только одна, иначе она не истина, а просто мнение или точка зрения.
Сегодня много говорят и пишут о духовно-нравственной деградации, декадансе западной культуры, но культура – это техническое проявление трансцендентной реальности. Всякая культура своими истоками восходит к религиозной вере. Вера в Бога – это наша точка опоры, она обеспечивает онтологическую стабильность, ибо не нуждается ни в доказательствах, ни в обосновании. Вера проникает в наш внутренний мир не через разум, а через наше сознание. Обмирщение веры ведет к мутации сознания.
Западные философы когда-то сделали величайшую ошибку, «поверив» Ф. Ницше, что «Бог умер». А ведь Ницше говорил о нашей мертвой вере. Наша вера обмирщала, и наша внутренняя духовная жизнь стала деградировать.
Бог пытается пробудить нас к сознанию, но, несмотря на все экологические, техногенные катастрофы, эпидемии, политические и военные конфликты, безбожное человечество никак не образумится, и продолжаются гей-парады, постулируется идея гендерного многообразия, регистрируются однополые браки, философы активно развивают идею постчеловеческого мира. Человечество исчерпало себя и балансирует на грани самоуничтожения.
Бог есть везде и во всем, он пытается сделать нас достойными, духовно готовыми к вечной жизни, но человек предпочитает получить все наслаждения и удовольствия здесь и сейчас, продлевать жизнь с помощью научно-технических средств, как это, например, предлагают трансгуманисты. Запад давно поменял веру на знание, трансцендентность – на трансгрессивное преодоление антропологических констант, таких, например, как культура – природа, человеческое – нечеловеческое.
Человечество вдохновилось идеями Возрождения, в результате человек возомнил себя венцом творения, увлекся научно-просветительскими идеями и сделал самого себя творцом: «И будете как боги». Но человек – существо непостоянное, капризное и абсурдное. Его постоянно куда-то тянет, он стремится к чему-то или к кому-то. Человечество испокон веков стремилось к счастью, к самосовершенствованию, знанию, к прогрессу. Совершенствование требует критерия совершенства, т. е. того идеала, к которому нужно стремиться. А у нас этим идеалом стал человек, слабый, грешный и беззащитный. Смерть Бога (Ф. Ницше) привела западную философскую мысль к идее о «смерти субъекта» (М. Фуко), а потом и о смерти человека. Человечество разочаровалось в самом себе и решило, что наступила пора постчеловечества. Философия наиболее явно отражает духовно-нравственное состояние общества, интеллектуальные и экзистенциальные поиски. Современная западная философия, совершив деантропологизацию мира, зашла в тупик, выход из которого она находит в постчеловеческой онтологии. Современные философы заняты поисками сознания вне связи с человеком. В настоящее время активно постулируется идея того, что гармонию в мире можно достигнуть через преодоление антропологической границы между человеческим миром и нечеловеческим. Через отказ от антропоцентрического мировоззрения можно якобы достигнуть «содружества» с физическим миром природы и объектов. Сам человек как будто готов «уйти в отставку», как изживший себя и никчемный. Развитие идеи кардинального изменения онтологического и антропологического статуса человека во многом обусловлено научно-техническим прогрессом вне контекста духовных-нравственных императивов.
Бесконтрольный прогресс в любой области ведет к бессмыслице, дурному беспределу, который рано или поздно может закончиться катастрофой. Нам нужен Бог, чтобы защитить нас от саморазрушения, чтобы ограничить наш трансгрессирующий прогресс. Нам нужен Бог, чтобы мы пришли в сознание.
Основополагающая причина начала антропологической катастрофы состоит в обезбоживании. Русский философ и писатель Федор Иванович Гиренок утверждает: «Антропологическая катастрофа нашего времени началась с того, что язык встал на место сознания. Мы знаем, что человек – сторож воображаемого…» [4, с. 51]. Обезбоживание привело к мутации сознания, когда место человеческого воображения занимает языковое сознание. Языковое сознание – это сознание, отчужденное от человеческого воображения, обработанное социумом, в нем человеческое закрывается знаками, алгоритмами социума, логикой господствующего мейнстрима.
1. Феномен свободы
Антропологическая деструкция непосредственно связана с пониманием феномена свободы. Отличительной чертой современного западного социума является специфическое понимание свободы. В эволюции понимания идеи свободы необходимо отметить следующие ключевые моменты: соотношение чувственности и рациональности, отношение к религии, понятие воли и восприятие мира. По сравнению с восточным пониманием свободы, где преобладает идея душевного состояния и духовного-нравственного совершенства, западная мысль более склонна к прагматизму и рациональности.
Например, Б. Спиноза считал, что мы наиболее свободны, когда мы рациональны. Пока мы рациональны, мы в состоянии управлять своими желаниями и чувствами. Только Бог абсолютно свободен и самоопределяем, тогда как люди, будучи детерминированы Богом, лишены свободы до некоторой степени. Мы свободны в том смысле, что мы несем причинную ответственность за свои собственные действия.
Свобода неизменно предполагает внутреннюю энергию и возможность действовать. Так, А. Шопенгауэр связывал идею свободы с волей. В зависимости от характера препятствий Шопенгауэр различал три вида свободы: физическую, интеллектуальную и моральную. Философ проводит различие между свободой действия и свободой воли. Шопенгауэр рассматривает человеческую деятельность как вполне детерминированную, но в то же время он утверждает, что та разновидность свободы, которая не может быть установлена в сфере человеческой деятельности, находится на уровне индивидуализированной воли – реальности, выходящей за пределы всякой зависимости от внешних факторов. По сути, свобода – это отсутствие препятствий, в частности, это относится к физической свободе. Абсолютной свободы нет, наши действия всегда детерминированы мотивами: мы всегда желаем, чтобы что-то произошло.
В западном мышлении почти всегда превалирует прагматическая концепция свободы, которая непосредственно связана с реализацией индивидуальных способностей, личных желаний и предпочтений. Религия плохо вписывается в такую картину практического понимания свободы. В этом отношении характерны слова Б. Рассела: «Вся концепция Бога – это концепция, происходящая от восточных деспотий. Эта концепция совершенно недостойна свободных людей. Когда слышишь, как в церкви люди унижают себя и говорят, что они жалкие грешники и все такое прочее, это кажется презренным и недостойным уважающего себя человека». [154, с. 18].
К. Ясперс утверждал, что свобода является фундаментальным аспектом человеческого существования и тесно связана со способностью преодолевать ограничения окружающего нас мира. Иными словами, понимание свободы зависит от нашего восприятия мира. Свобода не дается, она приобретается внутренними усилиями. Свобода – это не просто отсутствие внешних ограничений и препятствий, а такое позитивное внутреннее состояние, в котором человек может выйти за пределы своих собственных ограничений и достичь нового уровня самосознания и самореализации.
У представителей экзистенциализма, в частности, Н. А. Бердяева и Ж.-П. Сартра, свобода раскрывается как онтологическое и ценностное основание человеческого существования. Пафос свободы у Бердяева сочетается с христианским пониманием добра и целостной истины. Свобода понимается как творческая сила, созидающая добро и ведущая человека в иной, высший, надмирный план бытия. У Бердяева свобода автономна, не зависит ни от чего. Свобода имеет неземную природу, это состояние духа. В отличие от богоборческой философии Ницше, Бердяев, будучи религиозным мыслителем, утверждает идею духовности, в основе которой есть совесть.
Если экзистенциализм подчеркивает свободное индивидуальное создание смысла, то структурализм делает акцент на социальную детерминацию смысла. Человек в значительной степени, если не полностью, определяется структурами, в которых он участвует. Во Франции разногласия Сартра и К. Леви-Стросса, основателя структурной антропологии, по поводу человеческой свободы стали символом полемики между французским экзистенциализмом и структурализмом. У Стросса гуманность проявляется в необходимости «освободиться» от субъекта, эмпирического и трансцендентального. Значительное влияние на структурализм оказал З. Фрейд, для которого индивидуальная жизнь в значительной степени определяется бессознательным разумом и глубинными психологическими побуждениями. Для Ж. Лакана, который был наиболее влиятельным постфрейдовским мыслителем в области психоанализа и философии, человеческий субъект разделен на сознательную сторону и бессознательную, состоящую из серий побуждений и сил, которые остаются недоступными. Самое основное для человеческого существа является самым чуждым. Бессознательное структурировано подобно языку.
Структурализм, вводя понятие «бессознательное», фактически лишает человека свободы, ибо бессознательный в принципе не может иметь осознаннной свободы.
В постмодернизме акцент ставится на проблематичность личностной идентичности. Понятие свободы связано с полным онтологическим отказом от субъекта. М. Фуко, в духе нигилизма, выступает за определенный вид свободы, который не требует ни понятия субъекта, ни телеологии освобождения. Философ рассматривает этику заботы о себе как практическое воплощение свободы. Хотя индивидуум не может выйти за пределы властных отношений, которое конструируют его «я», он может заниматься самоопределением. Такое постмодернистское видение свободы легализовало путь к современному пониманию свободы самовыражения и определению своей собственной идентичности, включая гендерной.
Современная Западная Европа стала территорией особого рода свободы. А именно – свободы нравов, неограниченной свободы для любого рода развлечений и самовыражения, абсолютной свободы в выборе своей сексуальной ориентации и даже… половой идентичности. Право на свободу самовыражения и удовольствия, по существу, превратилось в главную ценностную ориентацию, формирующую социальную и культурную жизнь современного Запада.
Стремление к свободе заложено в человеческом сознании и является нормальным стремлением человеческого духа. Однако свобода обманчива. Априори абсолютной свободы не бывает. Человеческая свобода ограничена с самого рождения. Нас никто не спрашивал, хотели бы мы родиться или нет, мы не выбираем своих родителей, место рождения или время нашего рождения. Свобода человека ограничена жизненными обстоятельствами. Мы все время сталкиваемся с тем, что существует, но не дано свыше, нам приходится с этим жить, независимо от нашего желания. Свыше нам дано право выбора, но любой выбор имеет последствия, которые человеку не дано знать. Вот здесь и возникает парадоксальность свободы, которая для человека, как существа, осознающего свою конечность благодаря нашему сознанию, есть и привилегия, и бремя одновременно. В отличие от животного, который живет в пространстве и довольствуется удовлетворением биологических потребностей, человеку присуще стремление превзойти себя, достичь каких-то высот в жизни. Человеку, чтобы стать человеком, необходимо было отделиться от природы, ставить цели, менять или добиваться их. И. Кант писал: «О человеке (как и о каждом разумном существе в мире) как существе моральном уже нельзя спрашивать, для чего он существует. Его существование несет в себе самом высшую цель, которой он в меру своих возможностей может подчинить всю природу; во всяком случае, ему не следует считать себя подчиненным влиянию природы, противоречащему этой цели». [13, c. 309]. Каузальность человеческого рода телеологична, т. е. направлена на цели.
А какие цели мы ставим, зависит не только от нашей мотивации, но и от нашего понимания свободы. В христианском мировоззрении свобода имеет два модуса: свобода «от чего» и свобода «для чего». Пределы свободы определяет религиозное сознание. В христианском понимании «свобода от» – свобода от греха и борьба с греховными наклонностями. Признание наших ограничений – это один из путей предотвращения саморазрушения, которое происходит в результате человеческого амбициозного эгоцентризма, злоупотребления свободой и перманентного стремления к техническому прогрессу. Современная свобода нравов, которая не что иное, как моральная распущенность, гендерный плюрализм, стремление преодолеть естественные человеческие возможности с помощью технических средств, – это следствие признания человеческих ограничений как жесткого детерминизма, против которого бунтует человечество.
Свобода «для чего» определяется нашим внутренним состоянием и является главным условием для достижения поставленных целей. Но наши цели и пути к их достижению зависят от нашего духовного состояния. Мы единственные существа, которые имеют внутреннюю жизнь, способны ставить цели, грезить и мечтать. У объектов нет желаний и нет целей. Животные не грезят, они всегда бодрствуют, потому что они живут в пространстве, а мы живем во времени. Желать можно многого, но во внутренней жизни может происходить все что угодно. Мы как странники перед множеством дорог и путей. Эта свобода зовет и давит одновременно, становясь невыносимым бременем или упоительным счастьем, приводящим в экстаз, который обращается в обман, если мы руководствуемся своей самостью, без Бога. В христианском понимании свобода – это основание для осознания смысла жизни. Свобода самости вне переживания духовной сопричастности к Богу, где «я» немыслимо без Бога, обессмысливает жизнь, ибо существование становится беспричинным и бесцельным. Свободный выбор без соотнесения с христианскими заповедями – это игра в русскую рулетку. Мы созданы по образу и подобию Божию. Бог абсолютно свободен. Самое страшное человеческое искушение – это желание творить свое собственное существование, самому стать источником аксиологических ориентиров, самому определять свое собственное существование, стать творцом самого себя.
Darmowy fragment się skończył.