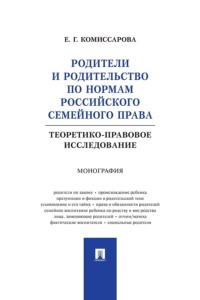Książki nie można pobrać jako pliku, ale można ją czytać w naszej aplikacji lub online na stronie.
Czytaj książkę: «Родители и родительство по нормам российского семейного права (теоретико-правовое исследование). Монография»
С благодарностью к моим Учителям – они подарили мне научную судьбу
Автор:
Комиссарова Е. Г.
Рецензенты:
Ильина О. Ю., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, декан юридического факультета Тверского государственного университета;
Кулаков В. В., доктор юридических наук, профессор, почетный работник сферы образования Российской Федерации, профессор кафедры гражданского права, ректор Российского государственного университета правосудия.

ebooks@prospekt.org
© Комиссарова Е. Г., 2024
© ООО «Проспект», 2024
Предисловие
Основополагающих целей при написании этой книги было две. Одна – систематизировать и теоретически описать все то знание о родителях, которое уже создано в науке семейного права, с одновременной актуализацией в нем того непрерывного, исторически-идейного, общезначимого и универсального, что создано трудами трех научных поколений и продолжает хранить свою академическую ценность. Другая цель – на основе этого знания разобраться в новейших взглядах на проблему, которые часто имеют собственную логику, не всегда сопоставимую с законодательной, и по-научному гармонично описать вновь открытое знание, которое расширило и одновременно усложнило семейно-правовой дискурс о родителях по закону.
Достижение этих целей непосильно отдельному взгляду, способному охватить лишь фрагменты этой многогранной проблематики. Автор посчитал это делом отдельной теории, поименованной для исследовательских целей как «родители и родительство в семейном праве». Термин «теория» в данном исследовании использован в том самом предметном смысле, который он обычно несет, указывая на последовательную систему тематических правил, объединенных началами общности и подчиненных единому юридическому смыслу.
В авторском видении теория родительства – это научно очерченная модель внутренне непротиворечивой системы теоретических знаний, которые простираются дальше трех общеизвестных родительских аксиом: происхождение ребенка, признание лица родителем (статус), наделение юридически идентифицированного родителя правами и обязанностями. Поэтому по содержанию исследуемых вопросов, структуре и организации научного материала проведенное исследование значительно отличается от имеющихся.
Научные усилия автора направлены на обновление дискурсивного пространства родительской проблематики за счет более развернутого научного описания всего того, что составляет ее ядро, и того, что является ее ближайшим теоретическим и нормативным окружением. Представляется, что такой развернутый подход позволит уменьшить число далеко не единичных научных заблуждений и даже ошибок, которые порождены желанием обнажить новейшее и сверх актуальное часто ценой наступления нового знания о родителях на старое.
Созданную теорию автор не именует новой. Говорить о «новой» теории – значит подразумевать, что есть старая. Тогда как замысел автора иной. Следуя ему, он описывает те аспекты родительской проблематики, которые предшествуют статусу родителя (происхождение ребенка и его установление), а также научно объясняет все последующие теоретические и законодательные взаимопереходы, которые ее по смыслу закона продолжают (усыновление, родительские права и обязанности, воспитание ребенка «по происхождению» и без, лица, заменяющие родителей, отчим и мачеха и др.). Такой подход позволяет теоретически организовать и одновременно актуализировать уже известные концептуальные схемы поставленной проблемы, нуждающиеся в теоретической достройке.
Это во многом объясняет, почему автор отказался от более привычного наименования темы проводимого исследования, например «родители в семейном праве». Не умаляя ключевого понятия «родитель», автор посчитал, что объединить всю совокупность имеющихся тематических знаний с помощью этой привычной словесной единицы проблематично. В своем смысловом значении она ограничена указанием на классические термины «мать» и «отец» и не позволяет лексически охватить те отношения, которые созданы законом как родительские (усыновление) или сосуществуют параллельно с ними (отчим и пасынок, фактический воспитатель и воспитанник). В то время как научный и столь же адресный, но более просторный термин «родительство» открывает такую возможность, позволяя организовать теоретические знания о родителях по закону на более развернутой юридической логике, которая в ее схематичном виде зафиксирована в оглавлении книги.
Избежал автор и такого классического наименования темы, как «правовой статус родителя». Такие исследования, основанные на традиционных юридических взглядах о том, что «нет права без субъекта, а субъекта без прав», уже есть в науке семейного права. В условиях значительно расширившихся юридических представлений о том, кого можно назвать родителем, этот подход стать обрастать теоретическими наслоениями в виде суждений о необходимости вычленить отдельные «родительские субстатусы»1 или ввести в теоретико-правовой оборот такое понятие как «родительская компетенция»2. Научный эффект таких частных теорий, оторванных от коренного и исторически непрерывного, становится все более заметным – законный статус родителя нередко оказывается вторичной сущностью перед лицом атрибутов, ролей и других функциональных эквивалентов «как бы» родительского поведения.
Отсутствие научных дискуссий на эту тему позволило задать юридическому мышлению то направление, следуя которому его носители стали принимать термин «родитель» за некое обобщенное понятие, обходя вниманием тот факт, что в действующем законодательстве оно представлено как нормативно цельное и по общему правилу неделимое. Это обусловило появление в науке семейного права классификационных взглядов на лиц, которые могут быть «на месте родителя» или выполнять функции родителя. Не поддержанные предметным научным языком и необходимыми правовыми аргументами, они стали конкурировать с классическими взглядами на родителей по закону. Простого несогласия с такими взглядами, частью которых являются суждения о том, что родители в семейном праве могут быть «разными», «дополнительными», «нетипичными», уже недостаточно. Как и научных призывов «исследовать проблему правового статуса родителей и выработать единый категориальный аппарат»3. Нужно более глубокое и одновременно более просторное теоретико-правовое описание проблемы юридических родителей.
Понятия «родитель» и «родительство» в настоящем исследовании не противопоставляются4 и не отождествляются в смысле определения одного через другое. Первое употребляется в качестве одного из базовых для всей семейно-правовой системы, от заданного смысла которого зависят другие юридические понятия: происхождение ребенка, родительские права и обязанности, алиментные обязательства родителей и детей. Юридизация понятия «родитель» в нормах семейного законодательства задала ему специальный характер и свела к минимуму вариативность. Тогда как понятие «родительство» более широкое. Оно позволяет охватить родительский институт как динамичную систему, которая находит свое смысловое продолжение в других нормативных конструкциях и институтах.
По ходу изложения текста автор стремится мыслить на языке позитивного права, подчиняясь силе уже сказанного нормативного слова. Это важно в первую очередь для самого автора – не уважая труд законодателя, критикуя его ради критики или игнорируя то, что им создано, в угоду «жареным фактам»5, трудно мыслить логично, последовательно и нерефлекторно, особенно в теме родительства, где у каждого есть свой собственный (детский или родительский) опыт. Это во многом объясняет постоянное обращение к таким элементам семейно-правовой догматики, как юридические конструкции, правовые понятия, презумпции, фикции, аксиомы. Выступая средством констатации юридических канонов, которые направляют исследование родительской проблематики, они позволяют устраивать теоретические суждения в стиле позитивно-правовой риторики. Этого с необходимостью требует тема исследования, в которой много правовых императивов (порядок установления происхождения ребенка, родительское признание и последующее правообязывание, усыновление и др.).
Усиливающееся теоретико-правовое давление на эти императивы, идущее со стороны плюралистических взглядов на родителей и родительство, побуждает ограждать их от искажения. Верность автора научной континентальной правовой традиции, исторически устроенной в сторону «от теории к законодательству», помогает поддерживать, а в отдельных случаях и восстанавливать, должный порядок в теоретическом повествовании о законных родителях. В то же время автор далек от идей «тотального юридического позитивизма», которые полностью отвергают связь спонтанных социальных норм и норм позитивных6. На это указывает набор структурных элементов книги, где есть место как правовой (гл. 2–4), так и социальной логике (гл. 5, 6). В стремлении уловить связь этих видов логики автор избрал такой стиль научного повествования, в котором есть место как для интерпретации норм действующего семейного законодательства в целях открытия его неочевидных очертаний, так и для анализа междисциплинарного знания о родителях, созданного в других гуманитарных дисциплинах, чьи представители не связаны обязанностью согласовывать свои взгляды с действующей догматикой.
Текст книги состоит из шести глав, где каждая глава – это отдельная ступенька в «лестнице рассуждений». В своей совокупности они представляют разные компоненты внутри сложной концепции юридического родительства: одни черпают свой смысл в базовых нормах о родителях «по закону», другие наиболее тесно примыкают к родительской проблематике, являя собой ее продолжение, и потому, по убеждению автора, не могут исследоваться «сами по себе». Отсюда внутренняя структура книги и логика ее раскрытия представлена в таком виде, где каждый следующий теоретический шаг обусловлен возможностями, открытыми в результате решения той научной задачи, которой был подчинен шаг предыдущий. Такая методика повествования позволила автору выстроить последовательное научное описание, когда частное воспринимается как часть целого, а не противопоставляется ему, работает с ним во взаимосвязи и позволяет с необходимой полнотой раскрыть то, о чем говорит заявленное название книги.
Тексту, размещенному в соответствующих главах, предпослано методологическое введение. Оправдывает такое начало текущее теоретико-правовое состояние родительской проблематики в семейном праве. В нем накопилось немало упрощений и заблуждений, подпитываемых в большей мере эмпирическими суждениями о том, что происходит в фактической родительской реальности, нежели предметно-правовыми суждениями, и некритичными отсылками к зарубежному научному и законодательному опыту. На самом деле современное семейно-правовое знание о родителях представляет собой сложный научно-теоретический пласт. По убеждению автора при его научном описании крайне важно мыслить «с начала». Для этого необходимо следовать принятым академическим формальностям в виде указания на те специальные научные методы, с помощью которых были созданы теоретические построения по проблеме. Из всех названных и вовлеченных в процесс исследования методов, автор наиболее детально описал историко-правовой, междисциплинарный и сравнительно-правовой методы. Опора на них во многом предрешила структуру проведенного исследования и позволила раскрыть юридическую проблематику родительства такой, какой она представлена читателю.
Первая глава «Родительство в междисциплинарном дискурсе» носит вводный и во многом установочный характер. В ней автор не вдается в детальные вопросы правовой проблемы родительства, способные ослабить убедительность содержания описываемых далее общих юридических вопросов основополагающего свойства. Цель этой главы – обратиться к предметным родительским концепциям, которые уже созданы в других областях гуманитарного знания (социология, психология, педагогика). Эмпирический материал, которым оперируют его представители, важен для автора не только как факт его узнавания, но и как элемент теоретического контекста для его собственных суждений. Обращение к этом виду знания позволило также постичь цели и методы освоения родительской проблематики в этих эмпирически настроенных науках, что дало возможность по ходу всего повествования обоснованно сопоставлять и разделять разные виды предметного знания о родителях и родительстве.
Итоговая цель обращения к разнодисциплинарным концепциям, созданным в других предметных областях, заключается в отборе необходимой информации и сборе доказательств в пользу тех гипотез, которые заявлены в оглавлении книги. При этом автор исходит из того, что интеллектуальные достижения других гуманитарных наук далеко не всегда являются поводом для одномоментного реагирования со стороны семейно-правовой науки.
В отдельном параграфе главы первой описывается текущее нормативное состояние родительских институтов и научное видение проблемы законных родителей в семейном праве (§ 1.2.). Цель параграфа ограничена замыслом зафиксировать текущее теоретико-правовое состояние проблемы родительства в науке семейного права и актуализировать базовые идеи, семейно-правовые и культурные смыслы, а также политические посылы, на которых устроены действующие нормы о родителях в праве.
Глава вторая «Понятия „происхождение ребенка“, „родство“ и „воспитание“: специфика последовательных юридических значений» выполняет роль теоретико-методологического регулятива по отношению ко всем другим главам книги. Проблемы, обсуждаемые в ней, проходят через всю книгу, помогая следующим главам найти «общий язык». Установочное суждение о том, что родительство «по-юридически» – это набор догматических правил в их взаимозависимости и взаимодополняемости с невозможностью переопределения того, что в них закреплено, направляет все последующие суждения автора. Его убедительности служат аргументы о необходимости различать подлинный юридический смысл при употреблении понятий «происхождение ребенка», «родство» и «семейное и внесемейное воспитание ребенка». Традиционная теоретическая путаница в их употреблении, неразборчивость в антропологических и социологических контекстах родства, а также стихийные перестановки, благодаря которым воспитатели ребенка (фактический супруг биологического родителя, отчим/мачеха и другие третьи лица) могут быть беспрепятственно «превращены» в родителей и наоборот, уже породили немало теоретико-правовых заблуждений.
Обращаясь в рамках этой главы к проблеме происхождения ребенка, рожденного вследствие применения технологий вспомогательного репродуктивного лечения» (§ 2.2.), автор больше краток, чем наоборот. Суждения, изложенные в данном параграфе, подчинены тезису о том, что возможности репродуктивной медицины «сами по себе» не способны изменить законодательное и доктринальное видение того, как должен быть устроен семейно-правовой институт происхождения ребенка. Исторически, имея цель установить на уровне должного то, от чего зависит жизнь ребенка после его рождения, он имеет четко обозначенные законом границы – от акта деторождения до акта родительского признания по закону. Несогласованность текущих юридических взглядов на эффекты вспомогательного репродуктивного лечения с этой максимой вытеснила семейно-правовую составляющую проблемы за счет смещения точки отсчета к технологическому зачатию.
Неверный юридический посыл породил несметное число клип-дискурсов оперативного порядка, в которых преобладает естественный язык и медицинская фактология при явном недостатке семейно-правовой аргументации. Не стремясь продолжать эту научную традицию, автор сузил предметные границы поставленной проблемы до семейно-правовых. Это объясняет как размещение данного параграфа в главе «про происхождение ребенка», так и ограничение рассуждений только одним видом вспомогательного репродуктивного лечения – суррогатное материнство. Прочие виды биомедицинского вмешательства в дородовой процесс с привлечением репродуктивных усилий третьих лиц укладываются в рамки терапевтических (диагностических и лечебных) мероприятий и в меньшей степени связаны с семейно-правовыми последствиями, имея непосредственное отношение к медицине, медицинскому праву и биоэтическим стандартам.
В отдельном параграфе автор обращается к теоретико-правовому описанию проблемы родства в семейном праве (§ 2.3.). Несмотря на то, что этот момент для родительской темы не второстепенный, автор обращается к нему в большей степени в порядке необходимости. Обусловлено это тем, что из юридического мышления постепенно уходит знание о том, что терминология родства и свойства не создается семейным правом. Исторически оно использует эти знания в качестве «готовой формы», созданной в этнографии/классической антропологии. Начиная с конца XX в. в этой области научного знания произошли существенные изменения, связанные с описанием поведенческого родства как родства фиктивного, фактического, социального, родства «по воспитанию» и др. По объективным причинам юридическая наука не отслеживает эти изменения, а потому плохо о них осведомлена. Недостаток информации о дихотомии взглядов культурных антропологов на родство, различающих родство кровнобиологическое и родство «по действию», а также стертость различий между широким термином «родство» и локальным «происхождение», отразился на юридических суждениях об открытости юридического понятия «родитель». Их продолжением стала легализация таких юридически безымянных понятий как «социальное родство» и «социальные родители». Они стали заданной часть родительской терминосистемы при неизвестности того, какую правовую идею дополняют и продолжают и какой методологии подчинено их использование.
В стремлении исключить будущие теоретико-правовые заблуждения на тему «поведенческого родства», уходящие в сторону предложений в адрес законодателя дополнить закон нормами о социальном происхождении, родстве и родителях, автор обратился к исходному антропологическому контенту, имея научное намерение расставить «все по своим местам».
В главе третьей «Усыновление ребенка как юридическая фикция родства» автор обращается к проблеме фикций, аналогий и тождеств, направленных на поддержание начал биологогенетического происхождения ребенка в усыновлении как акте, законно превращающем усыновителя в юридического родителя. Основой авторских рассуждений является дуалистичный взгляд на акт усыновления ребенка. С одной стороны, это способ устройства ребенка, лишенного родительского попечения, в семью. С другой, законный способ защиты прав такого ребенка. Но способ особый, в основе которого лежит акт наделения усыновителя родительским статусом и соответствующими ему правами и обязанностями (§ 3.1.). Такой подход объясняет место данной главы в структуре книги. Она размещена после гл. 2, где научно объяснены концептуальные моменты семейно-правовой проблемы происхождения ребенка.
В этой же главе автор обращается к проблеме тайны усыновления (§ 3.2.), избегая воспроизведения общеизвестных аспектов проблемы. Основополагающие суждения устроены на аргументе о том, что тайна усыновления – это неавтономное правовое явление. Оно имманентно тому виду усыновления, который в российском законодательстве является единственным, – полному или закрытому. Отсюда научная и нормативная судьба тайны усыновления – это всего лишь следствие усыновления закрытого вида. Утверждая, что это усыновление по-прежнему сохраняет свою актуальность, автор описывает тайну усыновления в сопряжении с такими личными правами усыновленного ребенка, как право на идентичность и право ребенка знать свое происхождение.
В четвертой главе «Правообязывание лиц, признанных родителями по закону», автор также старается избегать уже известных классических описаний темы. Обычно они стереотипны за счет указания на императивные и диспозитивные аспекты родительских прав и обязанностей с неизмененным уходом в вопросы интерпретации и классификации конкретных прав и обязанностей, основания для их лишения и ограничения. Траектория авторской мысли выстроена в другом направлении – от института происхождения ребенка к родительским правам и обязанностям.
Помня, что язык родительского права берет свое начало от греческой философии, римского права и христианской теологии, автор обратился к глубинам знаний о родительском обязательстве (§ 4.1.). Эти вовлечения сделаны не ради них самих. Несмотря на то, что философские и римско-правовые идеи во многом определили вектор правовой эволюции темы отношений родителей и детей, в укоренившейся неравномерности историко-правовых описаний концепции родительских прав и обязанностей эти контексты обычно опускаются. Итог их неосмысленности выражается в отсутствии однозначного научного представления о том, что наделение родителей правами и обязанностями – это не автоматическое следствие природы и биологии, а культурный и политический выбор цивилизованного законодателя. Прояснение философских установок дало возможность упорядочить и освежить привычный набор исследовательских методов, которые используются для научного описания родительских прав и обязанностей.
Последующие параграфы этой главы, соответствующие историческим периодам развития нормативной конструкции «родительские права и обязанности», автор описывает сквозь призму теоретико-правового и нормативного видения. В сферу его научного внимания попали проблемы исторической и современной сочетаемости интересов ребенка и его родителей как отличительная черта родительских прав (§ 4.3.), а также проблема абсолютности родительских прав (§ 4.4.).
Пятая глава «Третьи лица в семейных правоотношениях с участием ребенка» посвящена научному описанию тех правовых понятий и норм, которые образуют так называемую периферию научного знания о родителях по закону: отчимы/мачехи (§ 5.1.), фактические воспитатели (§ 5.2.), лица, заменяющие родителей (§ 5.3.). Семейно-правовое знание об этих лицах традиционно пребывает в состоянии латентного, ненаукоемкого и во многом стереотипного. Автор стремится расширить его, актуализировать и с учетом заключенного в нем адаптивного ресурса задать ему соответствующий науковедческий уровень и желаемую теоретическую перспективу за счет соотнесения с исходным юридическим знанием о законных родителях.
Заключительная шестая глава книги «Проблема социального родительства в ее теоретико-правовой постановке» во многом носит постановочный характер. В отличие от других гуманитарных наук в науке семейного права не существует концепции социального родительства. Ее зачатки обнаруживают себя в спонтанных суждениях о социальном родстве, социальных родителях, социальном воспитании. С их помощью предпринимаются теоретические попытки переноса родительских прав и обязанностей на третьих лиц. Но ясного правового представления о том, как это сделать инструментально пока не сложилось. Отсюда гносеологическая ценность этих юридически безымянных понятий, помогающих понять, что происходит с семьей, браком и родительством в реальном социуме, остается ограниченной.
Интуитивная привлекательность социальной терминологии в родительской теме пока остается не подкрепленной тем видом правовых знаний, которое растет «из недр теории». В таких условиях автор ограничился научной попыткой упорядочить фрагментарные правовые взгляды на социальных родителей, найти им в пространстве семейного права юридических референтов и предложить теоретико-методологические знания, которые могут стать первичными ориентирами для познания проблемы. Научная новизна темы социальных родителей в семейном праве во многом обусловила предварительный характер суждений, изложенных в этой главе.
Каждая глава книги представляет собой отдельный тематический блок научного материала. Это удобно для читателя, который может ознакомиться только с той частью книги, которая значима для его научных интересов. Однако заложенная в ее структуре под общим заголовком так называемая раздельная множественность является в большей степени визуальной условностью. По тексту изложения она прочно связана общезначимыми фундаментальными идеями, которые работают на логическое объединение ее частей в одно целое, именуемое теорией юридического родительства.
В книге нет отдельной главы или параграфа, посвященных семейно-правовой политике и семейным ценностям, которые определяют и направляют общую идеологию родительской проблематики. Это не значит, что автор их игнорирует. Отсутствие отдельной структурной части о таких установках – часть теоретического замысла. Автор исходит из того, что семейно-правовой закон априори организован вокруг семейных ценностей и с их участием. Догматический стиль мышления, направляющий большинство его суждений, с необходимостью побуждает к прояснению этих ценностей, и по ходу повествования автор обращается постоянно обращается к ним.
В тексте также нет отдельных оговорок об опциях пола родителей. Автор признает, что концепция «брак для всех» во многих странах стала катализатором теоретико-правовых и частично законодательных изменений в институте родительства. Их цель ввести в нормативный текст и доктрину права социальные (фактические, психологические, поведенческие) основания для целей родительской идентификации. В данной работе в качестве данности принят тот порядок организации законных родительских статусов, который основан на гетеронормативной ориентации отечественного конституционного и семейного законодательства.
Не исключено, что автор получит упрек в том, что в этой книге слишком многое упущено. К числу упущений может быть причислено отсутствие суждений о несовершеннолетних родителях, об ограничении и лишении родительских прав и обязанностей, об охранительных опекунских институтах в их сегодняшнем надзорно-контрольном значении и ювенально зависимых детях. При всей важности этих институтов автор абстрагировался от них для того, чтобы не превратить эту книгу в трактат, а сосредоточиться на том знании, которое в научном отношении является наиболее методологически ценным для перспективных научных дискуссий о родителях и родительстве в их позитивной направленности.
Общеизвестно, что континентальное семейное законодательство – это в первую очередь система позитивных норм, опора на которые служит источником позитивного научного мышления. Как заметил американский юрист XX в. Л. Фуллер, рассуждая о познании проблем «тружениками юридического сада», «никто не сможет многое узнать о проблемах садоводства, если он изучает сад, разрушенный ураганом или истощенный в результате засухи»7. Следуя правилам академической вежливости, автор направил свои усилия на создание позитивного юридического образа родителя и исследование всего того, что к этому срезу проблемы примыкает, не умаляя при этом значение охранительных аспектов родительской проблематики.
В попытках открыть, интерпретировать, научно описать и задать юридическому повествованию о родителях диалогичный характер, автор постарался максимально учесть имеющийся теоретический ресурс по проблеме, частью которого являются дореволюционные, советские и постсоветские труды, а также историко-правовые современные труды зарубежных авторов. Он отражен в сносочном материале книги и получился объемным. Обращение к каждому из поименованных источников не является слепым «погружением» в виртуальный мир цитат и ссылок со стремлением соответствовать «общепринятым правилам». Это попытка быть объективным и убедительным за счет всестороннего подхода к оценке всей той новизны, которая хлынула в родительскую проблематику, поставив ее в положение если не теоретического тупика, то «перепутья». Часть источников, размещенных в сносках, предназначена для более углубленного познания тех проблем, которые обсуждаются на страницах книги и представлены в качестве рекомендуемых для дальнейшего читательского прочтения. Все отсылки к цитируемым взглядам с необходимостью имеют научно-предметное сопровождение (социолог, антрополог, юрист, педагог и т. д.), а в случае с зарубежными авторами указывается их страновая принадлежность.
В сносочный материал не попали лишь те работы, которые на данный момент нельзя причислить к апробированным, а также те, которые повлияли на содержание текста лишь в незначительной части. Но автор в равной мере благодарен всем ученым, чьи теоретические усилия стали предпосылкой для написания работы.
Публикуя эту книгу, автор выражает искреннее намерение, что ее материал поможет улучшить методологию семейно-правовых исследований по родительской проблематике, обновит существующий научный дискурс и позволит увидеть новые научные перспективы в ее исследовании.