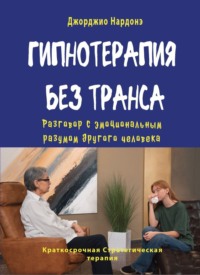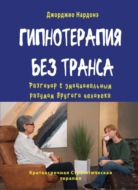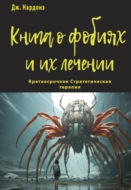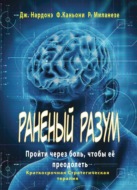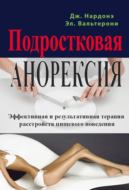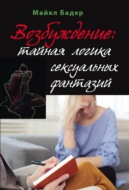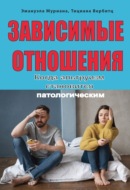Czytaj książkę: «Гипнотерапия без транса. Разговор с эмоциональным разумом другого человека»
Научный редактор канд. психол. наук Е. Первышева
© 2020, Adriano Salani Editore
© 2024-25, ООО «И-трейд»
* * *
Две крайности: отрицать разум, признавать только разум.
Блез Паскаль
Пролог
Большая шумная толпа ожидает выступление известного докладчика. Среди присутствующих – врачи, психологи и психиатры – публика, как правило, не слишком любезная, особенно по отношению к тем, кто представляет нечто, объявленное инновационным.
Герой выходит на сцену, спокойный и элегантный. Он молчит. Только часть аудитории замечает его и садится, глядя на него, в то время как остальные продолжают разговаривать между собой. Дойдя до своего места, оратор останавливается и, не говоря ни слова, начинает наблюдать за публикой. Его взгляд похож на луч света, который перемещается по залу, освещая его части одну за другой. Через несколько секунд, словно привлеченные мощной энергией, все присутствующие затихают и садятся, направив на выступающего все свое внимание.
Своим поведением эксперт по коммуникации создал мощный эффект внушения, уже хорошо известный как софистическому искусству мягкого убеждения1 (Untersteiner, 2008), так и римскому ораторскому искусству (Cicerone, 2015): ему удалось утвердить собственную харизму перед публикой. Примерно так же заклинатель змей «гипнотизирует» кобру движением головы и взгляда, а не звуками флейты, как принято считать; змея во время этих представлений поднимается, неподвижно глядя на своего дрессировщика, и на самом деле она практически ничего не слышит. Приведём ещё один пример. Человек, страдающий акрофобией, то есть боязнью высоты, под руководством опытного психотерапевта выполняет заданные действия. При определенной позиции рук он давит на большой палец до боли и наконец-то может взглянуть перед собой на горизонт с небоскреба Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Затем он постепенно опускает взгляд все ниже. И так, скользя взглядом справа налево с высоты более двухсот метров, человек ощущает собственную способность свести на нет то, что до этого было инвалидизирующей его фобией2.
Что общего между этими тремя, казалось бы, совершенно разными и по-своему удивительными случаями? Поведение эксперта по коммуникации, заклинателя змей и психотерапевта влияют на то, как публика, кобра и пациент воспринимают реальность. Они направляют опыт этих субъектов, и, следовательно, их эмоции, мысли и поведение, и делают это, использую определенный способ коммуникации. Невербальный, паравербальный и вербальный способы коммуникации способны вызывать у человека состояние, в котором он открыт к изменениям, и это состояние в сочетании с намеренно предписанными изменениями создаёт эффект, который может показаться почти магическим. Пол Вацлавик назвал его «гипнозом без транса», который в психотерапевтическом применении становится гипнотерапией без транса».
Немало коллег, использующих гипноз, склонны отрицать суггестивную реальность и сводить ее исключительно к гипнотическим феноменам (Loriedo, Zeig, Nardone, 2011); в действительности же суггестия и гипноз – близкие, но очень разные явления. Если в случае с гипнозом у нас есть возможность провести объективные измерения, такие как замеры ритмов мозговой активности с помощью электроэнцефалограммы, и использование строгих шкал измерения гипнотической восприимчивости (Weitzenhoffer, Hilgard, 1959; Yapko, 1990; Nash Bamier, 2008), то в случае с суггестией измерение гораздо сложнее, поскольку это явление имеет значительно больше вариантов и проявляется в состоянии полного бодрствования и нормальной активности вовлеченного субъекта. Если гипнотическое состояние может быть связано с определенными предикторами, особенно в случае невербальных проявлений, эти сигналы не обязательно присутствуют в состоянии суггестии. Примером может служить «эффект толпы», который изучал Густав Лебон в начале прошлого века. В таком состоянии суггестии у индивида, «погруженного» в массу людей, объединенных одной целью, ослабляются механизмы торможения, и он приспосабливает свои индивидуальные действия к поведению группы. Говоря словами Лебона (1895), индивид становится «каплей воды, подталкиваемой потоком». Множество отдельных капель, однако, вместе образуют новую неудержимую сущность: волну, которая сметает то, что ей противостоит. Этот феномен, как хорошо известно социальным психологам, лежит в основе преступлений, совершаемых массами. В качестве ещё одного доказательства того, что внушение трудно поддается объективному измерению, хотя это явление постоянно присутствует в нашей реальности человеческих существ, находящихся в постоянных отношениях с самими собой, другими людьми и миром, позвольте мне рассказать об одном недавнем случае. В университете Линк (Link Campus University – негосударственный университет, административный корпус которого расположен в Риме – Прим. пер.) один известный ученый представил доклад о результатах исследований так называемых зеркальных нейронов. В перспективе возможного научного сотрудничества мы смогли побеседовать и обменяться опытом. Во время обсуждения я спросил исследователя, обнаруживал ли он когда-нибудь активацию зеркальных нейронов у испытуемых в состоянии суггестии. Он, с типичным для настоящих исследователей энтузиазмом, ответил, что было бы очень интересно провести подобный эксперимент, и спросил, как можно объективно и количественно измерить наличие состояния суггестии. Я, в свою очередь, сказал, что в настоящее время не существует объективных инструментов, способных измерить такое явление, кроме тщательного наблюдения за изменениями в чувствах и поступках людей, находящихся в этом состоянии. Исходя из этого, мой собеседник заключил, что подобное исследование провести невозможно. Этот обмен мнениями выявил одно из самых коварных ограничений научного исследования, а именно его сведение к количественным методам и, следовательно, к изучению явлений, в отношении которых могут быть применены эти методы. Таким образом, складывается ситуация, когда все исключительно качественные явления, которые нельзя операционализировать, становятся как будто неважными или даже не существуют, поскольку они исключены из исследования (Nardone, Milanese, 2018; Castelnuovo, Molinari, Nardone, Salvini, 2013); суггестивные явления, не поддающиеся количественной операционализации, игнорируются, даже несмотря на то, что их эмпирическое подтверждение часто поражает.
Примеры как индивидуального, так и массового внушения известны с древности. В таких состояниях происходит некое внешнее «навязывание», которому разум субъектов не может противостоять. Оно ощущается как действие непонятной силы, подчиняющей себе волю людей. Но даже в наше время, несмотря на прогресс и совершенствование знаний, описание суггестивных явлений не сильно отличается от того, что мы читаем у древних авторов. Достаточно поискать этот термин не только в энциклопедических изданиях или словарях, но и в специализированных работах по психологии, чтобы убедиться, насколько расплывчато и неясно трактуется этот феномен. Его неточное объяснение сводится лишь к констатации того факта, что суггестия противостоит воле, логике и способности к рациональному выбору. Суггестивные состояния не могут быть сознательными или бывают лишь частично таковыми, поскольку они порождаются чем-то, что изменяет волю индивида и его ясное присутствие в реальности. Кроме того, само значение слова воспринимается негативно: считается, что внушение опасно, поскольку может заставить человека вести себя против его же воли и разума.
Все эти определения не учитывают того, что значительная часть научных открытий, художественных произведений, выдающихся поступков и рекордов стали возможны благодаря тому, что те, кто их совершил, находились в состоянии суггестии, в так называемом «перформативном трансе» (Нардонэ, Бартоли, 2022). Да, это состояние бессознательное. Но если же оно обучено многократными упражнениями, которые освобождают разум от сознательных ограничений, то позволяет человеку реализовать потенциальные возможности, которые иначе были бы заблокированы. Часто терапевтическая сила внушения даже не принимается в расчет, как в случае с эффектом плацебо и эффектом ожидания. Эти экспериментально доказанные эффекты чаще всего игнорируются медициной и психологией, как это ни парадоксально, именно тогда, когда они имеют дело с терапевтическими доказательствами. То же самое относится и к исследованиям языка и коммуникации. Несмотря на то, что сила суггестивного внушения, вызывающего ощущения, хорошо описана и объяснена, в исследованиях этой области всё ещё предпочтительна коммуникация, «свободная от риторической мишуры» и суггестии. Более того, большинство людей относятся к суггестивной коммуникации с недоверием и до сих пор клеймят ее как некорректный, а то и откровенно нечестный способ взаимодействия. Такова извечная судьба суггестии, хотя она и считается «самым благородным из искусств» (Nardone, 2015). Идеи Платона по-прежнему доминируют в философии (Уайтхед, 2014), и, к сожалению, наука сводится исключительно к количественным методам, а логические и философские дисциплины все еще отягощены предрассудком. Он заключается в том, что лишь то, что поддается строгой логике и кристальной рациональности, может считаться обоснованным и легитимным. Однако такая трактовка знаний, доступных человеку, ограничивает их тем, что можно свести к критериям оценки и измерения. Подобный подход редуцирует знание, нарушает равновесие в сторону необходимости подтверждения и контроля, подрезая крылья открытиям.
Однако же, «логика ведет нас из пункта А в пункт Б, а воображение – повсюду», как утверждал Альберт Эйнштейн. Тем, кто чрезмерно доверяет логике, основанной на математике, мы напомним, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, а при изменении порядка слов меняется смысл фразы. Иными словами, ограничивать науку и ее применение только тем, что операционально измеримо и логически согласовано, конгруэнтно и непротиворечиво – значит становиться слепым и глухим ко всем тем аспектам реальности, которые мы не в состоянии объяснить в силу ограниченности наших методов познания (Nardone, 2017). Это приводит к инволюции вместо эволюции, как это происходит во всех самореферентных системах, подобных зеркальным комнатам, которые возвращают друг другу одно и то же отражение. Именно из-за редукционистского подхода многие природные и социальные явления, которые демонстрируют конкретные эффекты, часто воспроизводимые, но не поддающиеся объяснению, исключаются из так называемой передовой практики даже в тех областях, где они могли бы быть решительно полезными, как в случае с медициной и прикладной психологией. Мы уже упоминали, например, об эффекте плацебо, который часто оказывается столь же эффективным, как и привычные методы лечения, а иногда даже превосходит их; в любом случае, он способен повысить эффективность медицинских предписаний. Несмотря на это, эффект плацебо никогда не рассматривается медициной в качестве терапевтического средства. В области клинической психологии было доказано, что ожидания пациента по отношению к терапии и терапевту являются наиболее значимым фактором успешного лечения, но не объясняется, что это результат таких предпосылок, как известность и харизма терапевта, и суггестивная коммуникация относительно методов терапии. В своей книге «Надежда – это лекарство» (2018) Фабрицио Бенедетти приводит многочисленные примеры того, как простые позитивные внушения со стороны врача в отношении даже тяжелобольных пациентов значительно влияют на эффект лечения. «Когда-то слова были волшебными», – писал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Эту фразу подхватил один из мастеров психотерапии Стив де Шейзер (1994), и даже использовал ее в качестве названия одной из своих книг. Магический эффект коммуникации, конечно, не ограничивается словами, а включает в себя жесты, мелодичность голоса, и все то, чем характеризуется аналоговый язык, вызывающий образы и ощущения, столь любимый и часто используемый в искусстве. Этот эффект должен занять свое место и в науке, чтобы она смогла преодолеть свои нынешние ограничения, ведь если сила суггестивной коммуникации нашла бы адекватное применение в таких дисциплинах, как медицина, психология и социальные науки, возросла бы их эффективность и результативность. Цель данной книги как раз и состоит в том, чтобы уделить должное внимание «сокровенной и таинственной» сфере суггестивных феноменов и измененных состояний сознания, их влиянию и применению в качестве действенных терапевтических инструментов и методов для достижения личных, социальных и организационноэкономических изменений.
Мы проанализируем как суггестию и способы ее стратегического использования, так и измененные состояния сознания, чтобы иметь возможность воспроизвести их и использовать в качестве средств терапевтических и социальных изменений. Более чем тридцатилетний опыт клинической практики и прикладных исследований позволяет нам проследить развитие техник суггестивной коммуникации и их применение для широкого круга терапевтических вмешательств, в том числе для пациентов разных культур. Со временем эти техники были формализованы и оформлены как самые настоящие инструменты, позволяющие реализовывать как терапевтические изменения, кажущиеся «магическими», так и удивительные перемены в отношениях людей в социальном и профессиональном контекстах.
Это именно то, что в 1989 году мы с Полом Вацлавиком определили как «гипнотерапия без транса» (Нардонэ, Вацлавик, 2006).
Darmowy fragment się skończył.