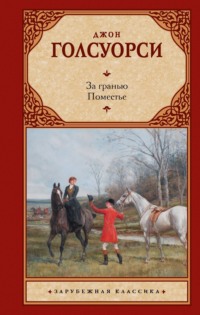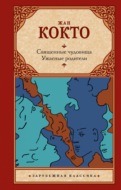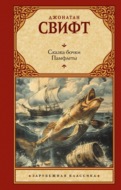Czytaj książkę: «За гранью. Поместье», strona 2
Глава 2
Победив всех соперников, пытавшихся завладеть сердцем Джип, Уинтон столкнулся с новым оппонентом, чью силу по-настоящему осознал только теперь, когда дочь уехала, а он сам сидел перед огнем в грустных думах о прощании с ней и прошлым. Вряд ли столь решительная натура, как он, чью жизнь наполнял сабельный звон и конский топот, была способна понять, как много для девочки значила музыка. Музыка, как точно знал Уинтон, требовала разучивания гамм, детской песенки «Избушка в лесу» и прочих мелодий. Он сторонился этих звуков как черт ладана, и поэтому понятия не имел, с какой жадностью впитывала музыку Джип и как этот интерес подогревала в ней гувернантка. Он не замечал, с каким восторгом Джип внимала любым случайным звукам музыки, проникавшим в Милденхем, – святочным песенкам, псалмам и особенно «Ныне отпущаеши» в деревенской церкви, которую девочка посещала с досадной регулярностью, далеким трелям охотничьего рожка в мокрой лесной чащобе, даже насвистыванию Марки, очень, кстати, искусному и благозвучному.
Уинтон поддерживал любовь дочери к собакам и лошадям, озабоченно наблюдал, как она ловит шмелей и прикладывает кулачок к ушку, слушая их жужжание, потакал ее постоянным набегам на цветочные клумбы в старом саду, полном цветущей сирени и ракитника весной, гвоздик, роз и васильков летом, георгинов и подсолнухов осенью, вечно запущенном, заросшем, сжатым со всех сторон и теснимом более важными соседями – выгонами для лошадей. Снисходительно относился к ее попыткам увлечь его пением птиц, но ему было просто не дано понять, до какой степени дочь любила музыку и тянулась к ней. Джип была загадочным маленьким созданием, частые перемены настроения делали ее похожей на ее любимицу, коричневую самку спаниеля, то резвую, как бабочка, то мрачную, как ночь. Малейшая резкость заставляла маленькое сердце Джип сжиматься от страха. В ней странным образом сочетались гордость и заниженная самооценка. Эти два качества настолько перемешались, что ни сама Джип, ни кто-либо другой не знали, какое из них было виновником приступов хандры. Будучи очень впечатлительной, она много чего сочиняла. Действия в ее отношении, лишенные всякого злого умысла, представлялись ей убедительным доказательством, что ее никто не любит, а еще – страшной несправедливостью, потому что она сама хотела любить всех, ну или почти всех. Настроение через минуту менялось, и она думала: «Меня не любят? Ну и пусть! Мне ни от кого ничего не надо!» Вскоре все ее обиды таяли, как туман на ветру, и она снова любила и резвилась, пока что-нибудь, совершенно не предназначенное ее ранить, опять не вызывало у нее жуткую обиду. Надо сказать, что в доме все ее любили и души в ней не чаяли. Джип, однако, была одним из тех нежных созданий, что рождаются со слишком тонкой кожей и особенно в детстве страдают от этого в мире, нарастившем слишком толстую шкуру.
К величайшей радости Уинтона, Джип чувствовала себя в седле как рыба в воде и совершенно не боялась ездить верхом. За ней присматривала лучшая гувернантка, которую Уинтон смог найти, дочь адмирала-кутилы, нуждавшаяся в заработке. Позднее из Лондона два раза в неделю стал приезжать желчный учитель музыки, втайне обожавший Джип больше, чем она обожала его. По правде говоря, любое существо мужского пола хотя бы немножко в нее влюблялось. В отличие от большинства девочек Джип никогда не была неуклюжей дурнушкой и росла, как цветок – равномерно и степенно. Уинтон нередко смотрел на нее, как в опьянении: поворот головы, «порхание» прекрасных чистых карих глаз, прямая линия округлой шеи, форма рук и ног – все это остро напоминало ему ту, кого он так любил. Однако, несмотря на сходство с матерью, дочь отличалась от нее и внешностью, и характером. В Джип сильнее чувствовалась порода: точеная фигура была эффектнее, душа тоньше, поза увереннее, в ней было больше грации. Настроения Джип менялись чаще, ум отличался большей ясностью, а в милом характере проскальзывала отчетливая острая нотка скептицизма, чуждого ее матери.
В нынешние времена нет больше заводил, иначе Джип легко стала бы ею в компании обоих полов. Несмотря на изящное телосложение, Джип не выглядела хрупкой и в охотку могла «гонять лис» весь день, вернуться домой уставшей донельзя и рухнуть на шкуру тигра перед камином, чтобы не подниматься по лестнице. Жизнь в Милденхеме протекала в уединении за исключением визитов товарищей Уинтона по охоте, да и то немногих – его духовный снобизм не нравился простоватым сельским помещикам, а женщин отпугивала его ледяная вежливость.
И все-таки, как и предсказывала Бетти, поползли слухи – постылые деревенские слухи, скрашивавшие скуку унылого прозябания и унылых мыслей. Хотя до ушей Уилтона не доходили даже отголоски сплетен, в Милденхем не казала нос ни одна женщина. Если не брать в расчет случайные дружеские встречи на паперти, на охоте или местных скачках, Джип росла, не имея знакомых среди лиц своего пола. Этот дефицит общения приучил ее к замкнутости, затормозил понимание отношений между полами, стоял за ее легким, безотчетным презрением к мужчинам, извечным невольникам ее улыбок, так легко впадавшим в беспокойство, стоило ей нахмурить брови, и за скрытой тоской по женской компании. Любая девушка и женщина, с которой ей доводилось встретиться, немедленно в нее влюблялась, потому что Джип была с ними добра, что делало мимолетность таких знакомств еще более мучительной. Джип совершенно не умела ревновать или злословить. Мужчины должны таких остерегаться – в ревности таится загадочное очарование!
Уинтон уделял мало внимания нравственному и духовному развитию Джип. Об этом предмете он не любил говорить вслух. Внешние условности вроде посещения церкви соблюдались, манерам девочке надлежало учиться как можно больше на его примере, а об остальном пусть позаботится природа. Его подход был не лишен здравого смысла. Джип быстро и жадно читала, но плохо запоминала прочитанное. Хотя вскоре она проглотила все книги скудной библиотеки Уинтона, в том числе Байрона, Уайт-Мелвилла и «Космос» Гумбольдта, они не оставили заметного следа в ее сознании. Попытки щуплой гувернантки привить ей увлечение религией засохли на корню, а знаки внимания приходского священника Джип со свойственным ей скептицизмом отнесла к категории обычного мужского интереса. Ей показалось, что святому отцу очень уж понравилось называть ее «милая моя» и похлопывать по плечу, видя в этом награду за пастырскую заботу.
Из-за уединения в маленьком темном помещичьем доме, где ремонта не требовали только конюшни, в трех часах от Лондона и в тридцати милях от залива Уош, воспитанию Джип, надо признать, недоставало духа современности. Раза два в год Уинтон брал ее с собой в город погостить на Керзон-стрит у своей незамужней сестры Розамунды. По крайней мере за эти недели у Джип развился природный вкус к красивым платьям, стали крепче зубы и появилась страсть к музыке и театру. Однако главная духовная пища современных юных дам – игры и разговоры – была ей совершенно недоступна. Более того, годы ее жизни с пятнадцати- до девятнадцатилетнего возраста пришлись на период, когда социальный подъем 1906 года еще не начался и весь мир пребывал в спячке, как ленивая муха на оконном стекле в зимнюю пору. Уинтон был тори, тетка Розамунда – тоже, так что Джип со всех сторон окружали одни тори. Единственное влияние на ее духовный рост в девичестве оказывала безоглядная любовь к отцу. Да и что еще могло повлиять на ее развитие? Душа плодоносит только в присутствии любви. Чувство меры, в высшей степени развитое у них обоих, не позволяло проявлять любовь слишком открыто. Но возможность быть с отцом, что-то делать для него, восхищаться им и – так как она не могла носить такую же одежду и говорить такими же рублеными, спокойными, решительными фразами, как он, – презирать наряды и манеру речи других мужчин была для нее драгоценнее всех сокровищ мира. Однако, унаследовав отцовскую разборчивость, она в то же время переняла его наклонность все ставить на одну карту. Так как по-настоящему отец был счастлив только в ее обществе, сердце Джип постоянно купалось в любви. Хотя она этого не сознавала, страстно любить кого-нибудь было для нее такой же потребностью, как вода для цветка, а быть любимой кем-нибудь – как свет солнца для его лепестков, поэтому довольно частые поездки Уинтона в город, в Ньюмаркет или куда-нибудь еще вызывали падение барометра в ее душе. По мере приближения даты возвращения отца тучи рассеивались.
Кое в чем ее воспитание все же преуспело – в чувстве сострадания к соседям-беднякам. Уинтон никогда не интересовался проблемами социологии, и тем не менее от природы имел щедрые сердце и руку и терпеть не мог вмешательства в чужие дела, поэтому Джип, сама по себе никогда не приходившая в гости без приглашения, постоянно слышала: «Заходите, мисс Джип», «Заходите, присядьте, дорогуша», а также множество других приятных слов даже от самых неотесанных и несносных субъектов. Ничто не смягчает сердце простого люда больше, чем приятное милое личико и сочувствие к жалобам.
Так прошло одиннадцать лет, пока Джип не исполнилось девятнадцать, а Уинтону – сорок шесть. В этом возрасте она под надзором гувернантки приехала на охотничий бал. Джип претило отношение к ней как к пушистому цыпленку: она хотела, чтобы ее с самого начала считали полностью оперившейся, поэтому на ней было идеально сидящее платье не белого, как у дебютантки, а теплого желтоватого цвета. Она унаследовала отцовскую франтоватость и старалась еще больше подчеркнуть ее в пределах, дозволенных лицам ее пола. Черные волосы, чудесным образом взбитые и уложенные, завитки на лбу, впервые обнаженная шея, «порхающий» взгляд и при этом исключительно невозмутимая осанка, как если бы она владела этими огнями, завистливыми взглядами, вкрадчивыми речами и восхищением по праву рождения. Джип была прекраснее, чем Уинтон ожидал в самых смелых мечтах. Она прикрепила на грудь пару веточек гельземия, привезенного отцом из города, аромат которого очень ей нравился. Уинтон никогда не видел, чтобы кто-нибудь носил этот цветок на балу. Дочь, гибкая, тонкая, порозовевшая от радостного волнения, каждым жестом, каждым взглядом напоминала ему ту, кого он впервые встретил на таком же празднике. Посадка головы, закрученные вверх усики сообщали о его гордости всему миру.
Памятный вечер принес Джип разнообразные переживания: несколько дивных, один момент недоумения и еще один – неприятный. Она упивалась своим успехом. Ей нравилось всеобщее обожание. Она с азартом и удовольствием кружила в танце, наслаждаясь ощущением, что умеет хорошо танцевать сама и доставлять удовольствие партнерам. Проникнувшись состраданием к маленькой гувернантке, в одиночестве сидевшей у стены – никто даже не посмотрел на уже немолодую полноватую бедняжку! – Джип отказала кавалерам два раза подряд и, к ужасу своей верной спутницы, оба танца просидела рядом с ней. На ужин отказалась идти с кем-либо, кроме Уинтона. Возвращаясь в бальный зал под руку с отцом, Джип услышала слова какой-то женщины: «Ах, вы не знали? Он и есть ее настоящий отец!» Какой-то старик ответил: «А-а, тогда все понятно!» У чувствительных натур глаза имеются даже на затылке, поэтому Джип спиной ощутила любопытные холодные ехидные взгляды и сразу поняла, что речь идет о ней. Тут ее вызвал на танец новый кавалер.
«Он и есть ее настоящий отец!» В этих словах заключалось слишком много смысла, чтобы полностью осознать его в такой богатый впечатлениями вечер. Слова эти оставили небольшую рану в неопределенном месте, но рану неглубокую и неопасную, скорее похожую на притаившуюся на задворках сознания растерянность. Вскоре все затмило новое острое чувство разочарования. Оно постигло Джип после превосходного танца с красивым мужчиной раза в два старше ее. Они присели за пальмами, он в мягких изысканных выражениях выразил восхищение ее платьем и вдруг, наклонив раскрасневшееся лицо, поцеловал ее в плечо. Ударь он ее, Джип была бы меньше потрясена и задета. В своей невинности она решила, что спровоцировала его какой-нибудь глупой фразой, иначе он бы не осмелился так поступить. Ни слова не говоря, она встала, смерила его потемневшими от обиды глазами, передернула плечами и бросилась напрямик к отцу. По ее застывшему лицу, плотно сжатым губам и чуть опущенным уголкам рта Уинтон сразу понял: случилась какая-то беда, но Джип, однако, ничего не рассказала, лишь пожаловалась на усталость и попросила вернуться домой. Они выехали все вместе морозной ночью; маленькая гувернантка, вынужденно промолчавшая весь вечер, теперь без умолку тараторила. Уинтон сидел рядом с шофером в низко надвинутой круглой меховой шапке и с поднятым меховым воротником, сердито дымил и буравил взглядом темноту. Кто посмел обидеть его любимицу? В салоне тихо журчала речь гувернантки. Джип, занавесив лицо кружевной вуалью и забившись в темный угол, молчала: перед глазами у нее стояла сцена оскорбления. Какое грустное окончание такого веселого вечера!
Она много часов пролежала без сна, пока в уме не возникла связная картина. Эти слова: «Он и есть ее настоящий отец!» – и мужчина, поцеловавший ее обнаженную руку, приоткрыли завесу над загадкой сексуальных отношений, укрепили вывод, что в истории ее жизни заключалась какая-то тайна. Столь чувствительный ребенок, как Джип, разумеется, не мог не почуять иногда дувший в ее окружении сквознячок морального осуждения, но она инстинктивно отмахивалась от подробностей. Джип смутно помнила время до появления Уинтона – Бетти, игрушки, нечеткий образ доброго, слабого здоровьем мужчины, кого она называла папой. В этом слове не было той глубины, как в слове «отец», закрепленном за Уинтоном, а следовательно, не было глубины и в ее чувствах к покойному. Когда девочка не помнит свою мать, как много сокрыто тьмой! О матери, кроме Бетти, ей никто ничего не рассказывал. В ассоциациях со словом «мать» для Джип не было ничего святого, никакие открытия не могли разрушить несуществующую веру. Выросшая без подруг, Джип плохо разбиралась даже в условностях. И все-таки, лежа в темноте, она ужасно страдала – от замешательства и ощущения не столько сокрушительного удара в сердце, сколько засевшей под кожей занозы. Сознание, что над ней нависло нечто привлекающее внимание, сомнительное, чреватое, как она считала, оскорблением, больно ранило ее чувствительную душу. Эти несколько бессонных часов оставили неизгладимый след. Джип, все еще теряясь в догадках, наконец заснула, а пробудилась, одержимая желанием узнать правду. В то утро она сидела за пианино: играла, отказываясь выходить из комнаты, – и была настолько холодна с Бетти и гувернанткой, что первая нашла прибежище в слезах, а вторая – в стихах Вордсворта. После чаепития Джип пришла в рабочий кабинет Уинтона, маленькое неопрятное помещение, где он никогда ни над чем не работал, с кожаными креслами и собранием книг, которые он за исключением «Мистера Джоррокса» Сертиса, Байрона, книг по уходу за лошадьми и романов Уайт-Мелвилла никогда не читал, с гравюрами лошадиных знаменитостей, своей саблей и фотографиями Джип и полковых товарищей на стенах. Во всей комнате глаз радовали только два ярких пятна – огонь в камине да вазочка, в которую Джип всегда ставила свежие цветы.
Когда она проскользнула в кабинет – стройная, лишенная угловатости фигурка, овальное лицо цвета сливок, темные глаза, нахмуренные брови, – Уинтону почудилось, что дочь в один миг повзрослела. Он весь день предчувствовал какую-то беду и перекапывал свои мысли до изнеможения. От избытка любви к Джип он теперь чувствовал тревогу, граничащую со страхом. Что могло случиться вчера вечером, во время ее первого выхода в свет, в обществе, повсюду сующем свой нос и всем перемывающем кости? Джип плавно опустилась на пол, прильнув к его колену. Уинтон не видел ее лица и даже не мог к ней прикоснуться, потому что она сидела с правой стороны. Уняв дрожь в сердце, он спросил:
– Что, Джип, утомилась?
– Нет.
– Нисколечко?
– Нет.
– Вчерашний вечер оправдал твои ожидания?
– Да.
В камине шипели и потрескивали дрова. Тяга ерошила длинные языки пламени. За окном завывал ветер. И вдруг она задала вопрос, от которого у него перехватило дыхание:
– Скажи, ты и вправду мой настоящий отец?
Когда давно ожидаемое событие наконец происходит, человек нередко бывает к нему не готов. За несколько секунд до ответа, от которого нельзя было уклониться, в уме Уинтона пронесся целый вихрь мыслей. Менее решительная натура впала бы в ступор и поспешно выпалила «да» или «нет», но Уинтон никогда не терял голову. Он не отвечал, пока не взвесил все последствия. Сознание, что Джип его дочь, согревало душу Уинтона всю жизнь, но если открыться, как сильно это ранит ее чувства к нему? Сколько ей уже известно? Что она подумает о покойной матери? А как восприняла бы это его любимая? Что решила бы на его месте?
Какой жестокий момент! Дочь спрятала лицо в его колени и ничем ему не помогала. Теперь, когда в ней пробудилось инстинктивное желание знать правду, от нее больше нельзя ничего скрывать! Молчание и то стало бы ответом. И, вцепившись в подлокотники кресла, он сказал:
– Да, Джип, твоя мать и я – мы любили друг друга.
Он почувствовал, как по телу дочери пробежала дрожь, и многое бы дал, чтобы увидеть сейчас ее лицо. Насколько она все поняла даже теперь? Ничего не поделаешь: надо доводить дело до конца, – и он продолжил:
– Что тебя заставило спросить об этом?
Джип покачала головой и пробормотала:
– Я рада.
Огорчение, шок, даже изумление Джип пробудили бы в нем чувство верности покойной, застарелую упрямую горечь, и он бы просто отгородился от дочери ледяной стеной, но два слова, произнесенных кротким шепотом, вызвали у него желание смягчить обстановку.
– Никто так и не узнал. Она умерла во время родов. Меня постигло ужасное горе. Если ты что-то слышала, это не более чем сплетни, ведь ты носишь мою фамилию. О твоей матери никто никогда не сказал ни единого дурного слова. Но теперь ты взрослая, и лучше, если будешь знать правду. Люди редко любят друг друга так сильно, как любили мы. Тебе нечего стыдиться.
Джип не сдвинулась с места, не повернулась к нему, только тихо произнесла:
– Я не стыжусь. Я на нее очень похожа?
– Да. Больше, чем я смел надеяться.
Совсем тихо Джип спросила:
– Значит, ты любишь меня не из-за меня самой?
Уинтон смутно догадывался, что в этом вопросе раскрывается ее душа, ее способность интуитивно проникать в суть вещей, обостренное чувство гордости и настоятельная потребность в безраздельной любви. Столкнувшись со столь глубокими эмоциями, человеку ничего не остается, как спрятаться за частоколом непонятливости. Уинтон, улыбнувшись, попросту сказал:
– А ты как думаешь?
К своему ужасу, он увидел, что Джип изо всех сил пытается подавить рыдания, отчего вздрагивают ее прижатые к отцовским коленям плечи. Он практически никогда не видел ее плачущей, несмотря на все злоключения беспокойной юности, а уж ушибов и падений ей пришлось пережить немало. Он ничего не смог придумать, кроме как погладить дочь по плечу и сказать:
– Не плачь, Джип. Не плачь.
Она прекратила плакать так же внезапно, как начала, встала и, прежде чем он сам успел подняться, вышла из кабинета.
Вечером за ужином Джип вела себя как обычно. Уинтон не обнаружил в ее голосе, поведении или поцелуе на ночь ни малейшей разницы. Момент, наступления которого он боялся многие годы, миновал, оставив после себя лишь легкое ощущение стыда, какое приходит после нарушения обета молчания людьми, почитающими молчание превыше всего. Старая тайна пока не выходила наружу, его не беспокоила, но теперь, став известной, причиняла страдания. Джип за последние двадцать четыре часа окончательно распрощалась с детством, стала жестче относиться к мужчинам. Если их не заставлять чуть-чуть мучиться, они будут мучить ее! В ней проснулся инстинкт своего пола. Она продолжала демонстрировать Уинтону любовь, и, может быть, делала это даже чуть больше, чем прежде, однако розовые очки упали с ее глаз.
Глава 3
На протяжении следующих двух лет уединения было меньше, а увеселений, пусть и не особенно регулярных, больше. Признание побудило Уинтона заняться укреплением положения дочери. Он не допускал кривотолков и никому не позволял смотреть на нее искоса. Умение противопоставить себя свету считалось неплохим «фасоном», однако такое поведение не допускало фальши. В Милденхеме или Лондоне, под крылышком сестры, с этим не возникало трудностей. Джип была слишком прелестна, Уинтон слишком холоден и слишком устрашал своей неразговорчивостью. Джип имела на руках все козыри. Единым фронтом общество выступает только против слабых.
Самое счастливое время в жизни девушки наступает, когда все ее ценят, все ее вожделеют, а сама она свободна как ветер, повелевает сердцами, не снисходя ни к одному из них. И даже если это время не самое счастливое, то уж наверняка самое веселое и богатое событиями. Какое дело было Джип до сердец воздыхателей? Она еще не познала любви, и муки неразделенной страсти обходили ее стороной. Опьяненная жизнью, Джип пустилась в веселую кадриль со множеством поклонников, довольно виртуозно ими помыкая. Она вовсе не стремилась делать их несчастными – просто не воспринимала всерьез. Ни одна девушка не была столь свободна сердцем. В эти дни Джип представляла собой необычную микстуру: с легкостью отказывалась от удовольствий ради Уинтона, Бетти и тети – маленькая гувернантка уволилась, – но, казалось, кроме них, ни с кем не считалась, принимая все, что возлагали к ее стопам, как дань своей внешности, элегантным платьям, музицированию, умению ездить верхом и танцевать, успехам на любительской сцене и лицедейству. Уинтон, которого она никогда не подводила, наблюдал за этим славным порханием с удовлетворением и тихой гордостью. Он приближался к тому возрасту, в каком человек действия больше не желает покидать наезженную колею своих занятий. Уинтон ездил на охоту, скачки, играл в карты и незаметно помогал деньгами и услугами своим бывшим менее везучим сослуживцам, их семьям и другим бедолагам в счастливом сознании, что Джип всегда рада быть с ним не меньше, чем он – с ней. А еще его потихоньку начинала донимать наследственная подагра.
Наступил день, когда Джип достигла юридической зрелости. Отец позвал ее в комнату, где, сидя у огня, представил отчет об управлении ее делами. Он лелеял и пестовал опутанное долгами наследство дочери, пока оно не достигло двадцати тысяч фунтов. Уинтон никогда прежде не рассказывал о нем Джип – эту тему было опасно затрагивать, – к тому же его собственных средств вполне хватало, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Пока он подробно объяснял, сколько у нее денег, показывал, куда они вложены, и советовал открыть свой собственный счет в банке, Джип стояла и с растущей озабоченностью смотрела на бумаги, назначение которых ей полагалось понимать. Не поднимая взгляда, она спросила:
– И это все… осталось от него?
Уинтон не ожидал услышать такой вопрос и покраснел под слоем загара:
– Нет. Восемь тысяч принадлежало твоей матери.
Джип взглянула на него и сказала:
– Тогда я не хочу брать остальное. Прошу тебя, отец!
Уинтон ощутил терпкое удовлетворение. Он еще не успел подумать, что сделает с деньгами, если Джип откажется их взять, но отказ был очень в ее духе: этот жест, как ничто другое, показал, что Джип – его родная кровь, и как бы окончательно закрепил его победу. Уинтон отвернулся к окну, у которого так много раз ждал прихода ее матери. Вот угол дома, который она всегда огибала. Казалось, пройдет минута, и она вновь появится в предвкушении объятий: щеки раскраснелись, из-под вуали смотрят ласковые глаза, грудь вздымается от спешки, – остановится, поднимет вуаль. Уинтон повернулся к дочери. Трудно поверить, что это не она!
– Хорошо, любовь моя, – сказал он. – Тогда прими такую же сумму от меня. А остальные деньги можно вложить куда-нибудь еще. Кому-то в будущем здорово повезет!
Непривычные слова «любовь моя», вырвавшиеся у всегда сдержанного отца, вызвали румянец на щеках и блеск в глазах Джип. Она бросилась ему на шею.
В те дни она много занималась музыкой: брала уроки игры на фортепиано у месье Армо, седовласого уроженца Льежа со щеками цвета красного дерева, немного похожего на ангела. Учитель не давал ей спуску и называл девушку «мой маленький друг». В Лондоне не проходило ни одного важного концерта, на котором бы Джип не побывала, ни одного выступления известного музыканта, которое она бы не посетила. И хотя утонченность манер не позволяла ей пищать от восхищения у ног талантливых исполнителей, всех их, и мужчин, и женщин, она возводила на пьедестал, а иногда даже встречала в доме тети на Керзон-стрит.
Тетка Розамунда, тоже любившая музыку, насколько позволяла ее «порода», часто поддерживала Джип, а та из нескольких слов, оброненных тетей, сочинила романтическую историю ее любви, погубленной гордыней. Розамунда – высокая, красивая, с продолговатым аристократическим лицом, яркими синими глазами, благородной душой, добрым сердцем и неподражаемой, мелодичной манерой речи, выдававшей в ее обладательнице непоколебимое сознание заслуженности своего положения, – была всего годом старше Уинтона. Тетя, в свою очередь, души не чаяла в Джип и всегда держала при себе любые, даже достоверные мысли относительно их родства. Опять же, насколько позволяло происхождение, Розамунда была гуманисткой и бунтаркой, любила лошадей и собак и терпеть не могла котов, правда, только двуногих. Ее племянница отличалась душевной мягкостью, особенно умиляющей тот тип женщин, кому лучше было бы родиться мужчинами. Розамунду, однако, нельзя было назвать воинственной натурой: скорее она обладала порывистостью, словно говорившей: «Если сможешь, попробуй за мной угнаться», которая так часто встречается у англичанок, принадлежащих к высшим слоям общества. Жизнерадостная, любившая длинные платья и безрукавки, ценные бумаги и трость с загнутой ручкой, она, как и брат, отличалась «фасоном», но обладала более развитым чувством юмора – очень ценным качеством в музыкальных кругах. В доме своей тети Джип была фактически обречена наблюдать и смешные выходки, и серьезные достоинства всех этих дарований с растрепанными волосами, до краев наполненных музыкой и спесью. Джип от природы отличало острое чутье на нелепое и смешное, поэтому они с тетей редко беседовали о чем-либо, не покатываясь со смеху.
Первый действительно скверный приступ подагры настиг Уинтона, когда Джип исполнилось двадцать два года. Испугавшись потерять к началу охотничьего сезона способность сидеть в седле, майор поехал с дочерью и Марки в Висбаден. Они сняли номера на Вильгельмштрассе с видом на сад, в котором листва уже превращалась в роскошное сентябрьское золото. Лечение шло долго и муторно, Уинтон отчаянно скучал. Джип проводила время намного веселее. В сопровождении молчаливого Марки она ежедневно совершала конные прогулки на гору Нероберг, негодуя по поводу правил, разрешавших пользоваться в этом божественном лесу со сверкающими медью буками только специально отведенными маршрутами. Один-два раза в день она посещала концерты в курзале – или в одиночку, или с отцом.
Когда Джип впервые услышала игру Фьорсена, отца рядом не было. В отличие от большинства скрипачей этот был высок и худ, с гибкой фигурой и быстрыми свободными движениями. Бледное лицо удивительно хорошо гармонировало с копной волос и усами цвета тусклого золота. На впалых щеках с широкими высокими скулами виднелись узкие лоскутки бакенбардов. Баки не впечатлили Джип, да и весь он ее не впечатлил, однако игра Фьорсена загадочным образом взволновала и захватила юное сердце. Скрипач, несомненно, обладал замечательной техникой. Она облекала взволнованный, своенравный порыв его игры в чеканную форму, в лепесток пламени, скованный льдом. Когда Фьорсен закончил выступление, Джип не присоединилась к шквалу аплодисментов, но сидела без движения, не сводя с него глаз. Ни капли не тронутый восторгом толпы, музыкант провел тыльной стороной ладони по лбу, откидывая необычного цвета пряди, довольно равнодушно улыбнулся и отвесил пару легких поклонов. Джип подумала: «Какие у него странные глаза! Как у леопарда или тигра – зеленые, свирепые и в то же время робкие и вороватые. Невозможно оторваться!» Такого мужчину – странного и пугающего – она еще не видела. Он, казалось, смотрел прямо на нее. Опустив глаза, Джип захлопала, а когда вновь подняла взгляд, улыбка на лице Фьорсена сменилась задумчивым, грустным выражением. Он еще раз легко поклонился – как показалось Джип, ей одной – и рывком поднес скрипку к плечу. «Он сейчас сыграет для меня», – мелькнула нелепая мысль. Фьорсен без аккомпанемента исполнил щемящую сердце короткую пьесу. Когда он закончил, Джип больше не смотрела на него, но от ее внимания не укрылся момент, когда он с небрежным поклоном покинул сцену.
В тот вечер за ужином она сказала Уинтону:
– Я слушала сегодня одного скрипача. Прекрасный исполнитель, его зовут Густав Фьорсен. Швед, наверно, как ты думаешь?
Уинтон ответил:
– Скорее всего. Есть на что посмотреть? Знавал я одного шведа в турецкой армии, славный был малый.
– Высокий, худой, бледное лицо, выступающие скулы, щеки впалые, странные зеленые глаза. Ах да, еще маленькие золотистые бакенбарды.
– Боже милостивый, это уже перебор!
Джип с улыбкой пробормотала:
– Да, пожалуй, ты прав.
На следующий день она увидела Фьорсена в саду. Джип с отцом сидела рядом с памятником Шиллеру. Уинтон читал «Таймс»: получения газеты он ждал с большим нетерпением, чем готов был признать, но не хотел жаловаться на скуку, чтобы не мешать удовольствию дочери, которое та явно получала от поездки. Читая обычные, приятные сердцу обличения поведения «этих каналий радикалов», недавно пришедших к власти, и отчет о встрече в Ньюмаркете, он украдкой поглядывал на Джип.
Вряд ли можно найти создание прелестнее, изящнее и породистее, чем она, среди голенастых немок и прочей неотесанной шушеры в этом богом забытом месте. Девушка, не замечая, что за ней подсматривают, поочередно останавливала взгляд на каждом, кто проходил мимо, на птицах и собаках, на газоне с бликами солнечного света, начищенной меди буковой листвы, липах и высоких тополях у воды. Врач, вызванный в Милденхем, когда у нее разыгралась мигрень, назвал ее глаза идеальным органом зрения и был прав – никто другой не умел так быстро и с такой полнотой охватить взглядом свое окружение. Собаки любили ее, то и дело одна из них останавливалась, в нерешительности размышляя, не ткнуться ли носом в ладонь девушки-иностранки. Перекинувшись игривыми взглядами с догом, Джип подняла глаза и вдруг увидела Фьорсена, проходившего мимо в сопровождении низкорослого квадратного человечка в брюках по последней моде и корсете. Высокая сухопарая долговязая фигура скрипача была облачена в застегнутый на все пуговицы сюртук коричневато-серого цвета. На голове – серая мягкая широкополая шляпа; в петлице – белый цветок; на ногах – лакированные сапоги с матерчатыми отворотами; на фоне белой мягкой льняной рубашки пузырится галстук-пластрон. Франт – ни дать ни взять! Странные глаза Фьорсена встретились со взглядом девушки, и он приложил руку к шляпе.