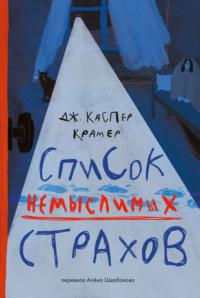Czytaj książkę: «Список немыслимых страхов»
Маме, которая научила меня быть храброй, даже когда страшно жути

Text copyright © 2021 by Jessica Kasper Kramer
© Щербакова А., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательский дом „Самокат“», 2022
Глава 1
Красная дверь.
Темный коридор.
Страшно до жути.
Этот сон всегда начинается так. Из звуков – только мерный стук капель за стеной. От страха я не могу пошевелиться. Крепко зажмуриваюсь, но, когда открываю глаза, дверь никуда не девается. Зловеще краснеет впереди.
По спине, словно полчища черных пауков, колюче бегают мурашки.
Кто-то шепчет мое имя.
И в этот миг сон почти всегда прерывается.
Обычно я просыпаюсь в слезах, ночная сорочка мокрая от пота, хоть выжимай. Обычно я бужу маму, умоляю зажечь масляную лампу возле нашей кровати, и мама крепко обнимает меня, пока я не перестану дрожать.
Но бывает, я не могу проснуться.
Иногда я мечусь во сне или сползаю на пол. Иногда бегаю по комнате и кричу, глаза у меня широко раскрыты, но я ничего не вижу.
Мама в такие моменты говорит, что я «застряла».
Обхватив мое лицо ладонями, она смотрит мне в глаза и по остекленевшему взгляду понимает, что я в глубоком сне. Мама зовет и зовет меня, чтобы я шла на ее голос, как на маяк, и вернулась в мир живых, но я словно под толщей воды. И ничего не слышу.
* * *
Вдалеке, по ту сторону Ист-Ривер, пелену предвечернего тумана прорезает луч маяка. Пять секунд слепящего света. Пять секунд зловещей тьмы. На мгновение мне кажется, что это опять случилось – я застряла в кошмаре.
Тут я понимаю: тень, растущая впереди над мутной вспененной рекой, – это остров Норт-Бразер, и меня бросает в дрожь. Я хочу уйти в салон парома, но мама берет меня за руку.
– Ты обещала, – тихо говорит она. Раз я ее слышу, значит точно не сплю. – Ну же, Эсси. Будь смелой девочкой.
Легко ей говорить. Мама – одна из самых смелых людей во всем Нью-Йорке. Кто угодно подтвердит: и чудаковатый владелец старого дома, где мы снимали квартиру; и моя лучшая подруга Беатрис; и монашки из нашей католической школы святого Джерома. Я своими глазами видела, как мама подбирает с пола дохлых крыс – и ее даже не передергивает. Видела, как затаптывает ботинком вспыхнувший огонь. Когда ей было всего пять лет, а это в два раза меньше, чем мне сейчас, она вместе со своей матерью плыла через огромный океан в Америку, куда уже перебрался отец. А у меня душа уходит в пятки, когда паром приближается к Хелл-Гейту.
Ледяной и влажный январский ветер хлещет меня по лицу. На палубе повсюду слякотные лужи и так холодно, что я дрожу даже в своем теплом пальто, но мама шагает к леерам и тянет меня за собой. Я упираюсь, мама глядит на меня с укоризной, но я не готова рисковать жизнью ради красивого вида. К тому же любой человек в здравом уме понял бы: этой тенью вдалеке не стоит любоваться.
– Многовато у вас багажа, – говорит кто-то позади нас, и мы с мамой оборачиваемся.
Служащий парома в длинном непромокаемом плаще, глянцевом от стекающей по нему дождевой воды, улыбается нам, касаясь пальцами фуражки. На реке поднялись волны, и он проверяет груз, который перевозят на палубе, – затягивает канаты покрепче и завязывает двойные узлы. На одном из больших деревянных ящиков рядом с ним виднеется надпись «МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА». На другом – «ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». Сверху, привязанный к багажной горе, взгромоздился наш старый пароходный кофр с помятыми боками, рядом с ним пристроилась симпатичная металлическая коробка для шляп – мамина, подарок ее нового мужа.
Моего нового отца.
Я морщусь.
– Я хочу сказать, многовато багажа, если просто едете в гости, – добавляет служащий. По всему видно, что на языке у него вертятся еще вопросы.
Сегодня нам уже повстречалось много любопытствующих, но этот моряк мне особенно не нравится. Есть в нем что-то подозрительное – то ли прическа, то ли обувь, поэтому я прячусь за маму и, сощурившись, разглядываю его.
– Мы не в гости собрались, – громко отвечает мама, перекрикивая шум волн. – Мы переезжаем на остров.
Служащий парома вскидывает голову.
– Неужто пациенты?
– Боже упаси! – восклицает мама.
Я не хочу снова смотреть на реку. Не хочу видеть маяк, который предостерегает нас, чтобы держались подальше от приближающейся тени. Но тут паром сильно подкидывает, нос захлестывает гигантская волна, палубу заливает, и я, спотыкаясь и крича, отбегаю от мамы и вцепляюсь обеими руками в боковой леер, чтобы меня не смыло за борт.
Мама же хихикает, как школьница, прижимая свою новую модную шляпку к голове. Она даже не потеряла равновесия, держится со всегдашней уверенностью и достоинством.
– Ну и разошлась же погодка! – говорит мама служащему в плаще, а потом, будто не заметив, что секунду назад я едва не упала за борт, добавляет: – Отойди подальше, Эсси.
Я зажмуриваюсь, стараясь не смотреть на бурные потоки ледяной воды внизу. Больше всего на свете мне хочется забиться вглубь парома, развернуть его и поплыть обратно домой, но я боюсь, что если отпущу леер, то непременно упаду. К тому же наш дом в Мотт-Хейвене уже нельзя назвать нашим домом. Наши пожитки, те немногие вещи, что остались, – их уже упаковали и отправили на остров. Наша квартира в городе опустела.
Наша квартира, в которой я жила всю жизнь.
Наша квартира, в которой я жила с мамой и папой – моим настоящим папой.
Когда в лицо мне вновь ударяет луч маяка, я нехотя открываю глаза и, щурясь от яркого света, через несколько секунд сменяющегося темнотой, вглядываюсь вдаль.
Остров Норт-Бразер выглядит необитаемым. Редкие деревья, растущие тут и там, походят на простертые к небу руки скелетов. Скалистая береговая линия будто поджидает, когда кто-нибудь оступится и подвернет себе лодыжку.
– Стало быть, вы медсестра? – продолжает допытываться служащий. – На замену пропавшим?
Отпустив леер, я оборачиваюсь, таращу глаза, но тут паром захлестывает еще одна волна, и меня отбрасывает к маме. Я кричу, еле держась на ногах, и мама подхватывает меня как раз в ту секунду, когда мутная коричневая вода переливается через борт.
– Я насквозь мокрая! – выкрикиваю я.
– Вовсе нет, – возражает мама.
– Я простужусь!
– Господи, Эсси! Не преувеличивай.
Мама поворачивается к служащему парома, вежливо прощается, после чего уводит меня в салон. Я вся трясусь от холода и некрасиво хлюпаю.
– А ну прекрати сию минуту. Хватит сцены устраивать.
Но я не могу прекратить. В голове у меня мелькают картинки всех возможных версий моей гибели.
Мама насилу отрывает мои пальцы от своей сырой юбки и промокает ее. Эта юбка в черно-белую полоску – новая, как и шляпа с металлической коробкой. Еще один подарок.
– Стоило выбрать другой день для переезда. – Мама выдавливает улыбку.
– Или вообще никогда не переезжать, – буркаю я.
По ее строгому взгляду я понимаю, что лучше мне замолкнуть, поэтому скрещиваю руки на груди и, все еще выбивая зубами дробь, отхожу от мамы. Паром качается на волнах. Остров Норт-Бразер подбирается все ближе. На небе чернеют грозовые тучи. Когда кто-то у меня за спиной начинает кашлять, я украдкой поглядываю через плечо. На этом маленьком пароме пассажиров немного, при посадке я заметила среди них двоих полицейских. Должно быть, сейчас они наверху, в капитанской рубке. Судя по всему, на пароме перевозят запасы медикаментов, пока погода еще позволяет пересекать реку. Но тут в дальнем конце салона я вижу закутанного в потрепанное одеяло исхудалого мужчину с лихорадочно горящим лицом.
От накатившей тревоги у меня сжимается нутро. Я пячусь.
– Иди сюда сушиться. – Мама машет мне платком, садясь на скамейку. Она бросает красноречивый взгляд на кашляющего мужчину, и я тут же бегу к ней.
Некоторое время мы молчим. Мы и так уже всё высказали раньше. Кричали. Обзывали друг друга по-всякому. Я плакала до посинения, хватая ртом воздух и причитая, что моя жизнь в опасности.
По правде говоря, так оно и есть.
Паром наскакивает на одну волну за другой, отчего у меня противно сосет в животе.
– Мы утонем, – шепчу я.
– Не утонем.
– В этом проливе постоянно тонут корабли. Хелл-Гейт – это кладбище.
Мама вздыхает.
– Знаешь, я так радовалась своему первому плаванию. Все мои мысли были о моем новом доме, каким он будет. И у нас выдалось несколько ночей, когда штормило куда хуже, чем сейчас. Я тебе рассказывала, как корабль стало заливать и воды в каюте было мне по самые панталоны?
Конечно, рассказывала. Я во всех подробностях знаю мамино путешествие из Ирландии. Даже о самом страшном – например, о том, как корабль загорелся, или как вся еда протухла, или как вокруг в нетерпении шныряли акулы, – мама говорит как о незабываемом приключении, которое я пропустила. Наверное, тогда она считала, что лучше уж такое плавание, чем всё, что происходило в ее жизни раньше. Мама и бабушка голодали. И корабль до Америки был последним шансом выжить.
Луч маяка вновь рассеивает туман, пробиваясь через окна салона. Свет. Тьма. Снова свет.
– Он славный человек, Эсси. Вот увидишь.
Я замираю. Мне не хочется опять слушать, как мама пытается меня убедить, что это верный выбор – и единственный. Не хочется слушать, как она говорит о докторе Блэкрике и его больнице.
– Мы заболеем, – говорю я тихо, бросая взгляд на другого пассажира.
– Не заболеем, – отвечает мама и, приобняв меня, целует в макушку.
Я понимаю, почему дедушка поехал в Америку. Понимаю, почему бабушка последовала за ним. Но несмотря на то, что мама в последнее время сильно исхудала и даже в новой красивой одежде фигура у нее угловатая, несмотря на то, что на Рождество нам едва хватило денег на уголь, чтобы не окоченеть от холода, а на подарки мы тем более не тратились, – я все равно не понимаю, почему она снова вышла замуж. Не понимаю, почему согласилась переехать в поместье этого чужого человека.
Дело в том, что остров Норт-Бразер не похож на другие острова.
Наш новый дом – там, куда неизлечимо больных отправляют из Нью-Йорка доживать свои дни и ждать смерти.
Глава 2
Что всё пропало окончательно и бесповоротно, я поняла вчера в половину четвертого.
Я вернулась из школы поздно и увидела, что все наши вещи упакованы. Но поразила меня вовсе не опустевшая квартира, ведь она у нас очень маленькая. И даже не наполовину наполненный громоздкий пароходный кофр с откинутой тяжелой крышкой, оставленный прямо посреди кухни. Нет, больше всего меня поразила мама: она стояла среди разбросанной по полу одежды и наспех завернутой в газетные листы посуды и примеряла новую шляпку. Шляпка была модная, с высокой тульей и широченными полями, увенчанная гроздьями лент и кружев. Мама что-то напевала себе под нос, любуясь своим отражением в тусклом ручном зеркальце. Меня она совершенно не замечала, словно я превратилась в невидимку. И только когда мои руки, ставшие вдруг ватными, разжались и школьные учебники глухо хлопнулись на пол, мама повернулась ко мне.
– Ой, Эсси! – воскликнула она, снимая шляпку. – Слава богу, пришла наконец-то.
Ее волосы были убраны наверх в пышный пучок. Мама постоянно грозилась остричься и жаловалась, что длинные волосы ей мешают, лезут в лицо, но до сих пор мне удавалось отговорить ее от этой затеи. Судя по всему, мои недавние попытки отговорить ее от решения, которое разрушит нашу жизнь, не увенчались успехом, потому как дальше она сказала:
– Тебе нужно уложить свои вещи. Завтра мы переезжаем на остров Норт-Бразер.
Смертный приговор прозвучал так обыденно, так непринужденно и неоспоримо, словно она исправляла мое домашнее задание по арифметике. Такой же прием она использовала две недели назад. Готовя на ужин колканнон, мама как ни в чем не бывало сообщила, что снова вышла замуж.
– Мы познакомились на женском марше суфражисток, – с улыбкой сказала она, сбивая пюре из картофеля и капусты. – Вообще его зовут Алвин Шварценбах, но здесь его называют Алвином Блэкриком, а то пока выговоришь «Шварценбах», язык сломаешь. Эсси, милая, вы прекрасно поладите. Скорее бы вас познакомить!
Было ясно как божий день: мама лишилась рассудка.
И дело даже не в том, что она вышла замуж за едва знакомого человека, причем немца, – она вышла за человека с очень незавидной профессией. Доктор Блэкрик заведовал одним из самых страшных мест в Нью-Йорке – больницей Риверсайд на острове Норт-Бразер. Людей с заразными болезнями – обычно бедняков или иммигрантов вроде нас – местное управление здравоохранения регулярно переправляло в одну из карантинных больниц на островах в проливе Ист-Ривер. Мнением самих больных чаще всего никто не интересовался. Если уж тебе не посчастливилось угодить на Норт-Бразер, пиши пропало: оттуда уже не вернешься. Все это знали.
Во время того первого разговора о моем отчиме, когда мама описывала, насколько велико его поместье в сравнении с нашей квартиркой, я оторопела. Увидев вчера, что вся наша жизнь поместилась в несколько чемоданов, я повела себя так же – смотрела на всё разинув рот.
– Погода вот-вот испортится, так что надо уезжать поскорее, – сказала мама. – Алвин прислал утром письмо из больницы, говорит, что на завтрашнем вечернем пароме для нас будут места. Иначе мы еще несколько недель не сможем уехать.
Я не стала говорить, что если мы «еще несколько недель не сможем уехать», меня это более чем устроит. Я вообще не сказала ни слова. Просто развернулась и вышла из квартиры. В узком коридоре, где пожелтелые обои отставали от стены, я бросилась бежать. На шаткой лестнице я сбавила шаг – а вдруг оступлюсь и полечу кубарем по ступенькам? – но когда спустилась и вышла через черный ход, то снова помчалась. В обнесенном забором заднем дворике за нашим домом было страшно холодно. На веревках над головой висело белье, покрытое ледяной коркой. Покосившиеся деревянные уборные, что стояли во дворе в ряд, расплылись у меня перед глазами, когда я пронеслась мимо. Обычно все три будки были заняты, ведь в этом маленьком доме жило больше семидесяти человек, но сегодня, к счастью, во дворике не было ни души.
Добежав до дальнего угла, где стояли деревянные бочки, я плюхнулась на землю, подтянула колени к груди, обхватив их руками, и дала волю слезам.
– Ты хлюпаешь, как дитя малое с ветрянкой, – раздался рядом голос.
Даже не глядя я поняла, что это Беатрис.
– Если собираешься говорить одни гадости, тогда оставь меня в покое, – пробормотала я, вытирая глаза заштопанными варежками.
Моя лучшая подруга встала передо мной, скрестив руки на груди. Подол платья заляпан засохшей грязью, волосы тоже грязные, чулки порваны на коленках – в общем, выглядела она как обычно. Беатрис всё время лезла куда не следует и выбиралась оттуда изрядно растрепанной.
– Ну, в чем опять дело? Снова нашла в наволочке мышку? – спросила Беатрис.
Я помотала головой.
– Тебя дразнили эти старшие мальчишки с перекрестка? Я велю братьям задать им трепку.
Я опять помотала головой.
– Какой-то громкий шум испугал? Или карандаши закатились под кровать, где темно?
– Ничего подобного! – выкрикнула я. – Ты даже не представляешь, насколько всё ужасно.
Беатрис нахмурилась.
– Так что случилось-то?
– Я переезжаю.
Она вытаращила глаза.
– Когда?
– Завтра. На остров Норт-Бразер.
После этих слов Беатрис опустилась на землю рядом и взяла мои руки в свои.
– Ну и ну. Это и правда ужасно.
Моя подруга знала всё о недавнем замужестве моей мамы, о докторе Блэкрике и его больнице. На самом деле Беатрис наверняка знала даже больше моего, но не рассказывала мне о неприятном, чтобы не огорчать. А знала она это потому, что была сыщицей. Беатрис подслушивала чужие разговоры. Читала чужие письма или следила за теми, кто вел себя подозрительно. Разумеется, вся ее разведывательная деятельность служила подготовкой к ее будущей профессии частного сыщика, и ничего удивительного, что из всех грошовых романов она больше всего любила детективные истории, например еженедельные выпуски о приключениях Ника Картера, а еще ей нравилось задавать неловкие вопросы новым соседям или шнырять по темным переулкам в поисках улик. Частенько Беатрис забывала об учебе и прогуливала уроки, потому что была слишком занята слежкой за всякими жуликами и воришками.
Мама и папа Беатрис особо не обращали внимания на ее увлечение детективами, даже когда она возвращалась домой из школы святого Джерома с саднящими рубцами на ладонях от ударов линейкой. Дело в том, что у Беатрис было три старших брата, и вот они-то требовали безраздельного внимания родителей. Братья Мёрфи считались грозой нашего квартала. Они затевали уличные драки и воровали сладости у лавочников, а все деньги, вырученные от продажи газет, спускали на азартные игры, папиросы и пятицентовые киносеансы. По вечерам мальчишек обычно притаскивали домой полицейские, и даже с пятого этажа я слышала вопли – это отец лупил их ремнем.
В общем, Беатрис славилась тем, что знала всё про всех, поэтому я была ей благодарна, что до сих пор она не приносила мне слухов о новом мамином муже. Хватало и того, что я переезжаю на остров, где живут люди с холерой, желтой лихорадкой и брюшным тифом. Не хотелось добавлять себе еще тревог.
Я утопила лицо в ладонях.
– Я никогда тебя не увижу. Я там заболею и умру.
– Эсси-Эсси-Эсси, – Беатрис подтолкнула меня плечом, – ну что ты, в самом деле. Если туда можно переплыть на пароме, то и я смогу тебя навестить. И ничего ты не умрешь.
– Я не хочу жить с каким-то незнакомцем!
– Могло быть и похуже, – серьезно заметила Беатрис. – Сама посуди, он обеспеченный, а значит, твой новый дом будет роскошным. Там, наверное, и электричество есть!
От охватившего меня ужаса я резко вдохнула и снова начала всхлипывать.
Беатрис покачала головой.
– Порой мне кажется, ты безнадежна.
Вдруг у нее изменился взгляд, и я сразу поняла, к чему идет дело. Когда глаза у Беатрис вот так округлялись и прямо-таки горели, это означало, что ей не терпится рассказать о том, что мне лучше не знать.
– Нет. Молчи, – быстро сказала я, шмыгая носом, и отодвинулась от подруги.
– Но, Эсси…
– Что бы там ни было, не говори! Мне и так страшно!
– Просто мне… Если ты ее увидишь… Ох, как же я тебе завидую!
– Ув… увижу ее? – запинаясь, переспросила я. – Кого увижу?
– Тифозную Мэри! – выпалила Беатрис. – Ее держат как раз на острове Норт-Бразер!
Я будто разом похолодела.
Тифозная Мэри.
Два года назад все газеты пестрели этой историей. Выяснилось, что через стряпню Мэри заразились брюшным тифом сотни людей, поэтому ее принудительно отправили в карантин. А прошлым летом в «Нью-Йорк Американ» напечатали жуткую карикатуру: Мэри приправляет блюдо, ставя его в печь, а вокруг разбросаны человеческие черепа. После этого газетчики опять взялись за старое. Беатрис по уши погрузилась в это расследование: как одержимая, она следила за развитием событий, выуживая выброшенные газеты из вонючих мусорных баков, чтобы ничего не пропустить.
– Помнишь ее знаменитый десерт? Мороженое с персиковыми дольками! Представляешь, ага? Мороженое и персиковые дольки… Я б такое съела в один присест, и наплевать на заразу.
– Не хочу больше ничего знать, – умоляюще сказала я, скручивая варежки жгутом. – И не хочу думать о том, что буду жить рядом с таким опасным человеком.
– Говорят еще, Мэри схватила разделочный нож и накинулась на мусорщика, который ее выследил! Или это была вилка?.. В общем, она вопила и кляла его на чем свет стоит. Ой, Эсси, позволь приехать к тебе в гости! Мне так хочется ее увидеть!
– Беатрис, прошу!
Она закатила глаза и обняла меня за плечи.
– Пойдем в дом. Ты вся дрожишь. Разве обморожения нет в твоем списке?
Разумеется, оно там было – внесено в Список немыслимых страхов в колонку на букву «О». Но эту боязнь затмили мой грядущий переезд на карантинный остров и загадочный отчим.
– Я не хочу домой. Не хочу собирать вещи.
– Ну, если ты не намерена заявиться в свой новый дом без смены исподнего, то выбора у тебя нет.
– Я не хочу разлучаться с тобой. – Мой голос прозвучал едва слышно.
Тут Беатрис понурилась, и мне показалось, что она тоже вот-вот заплачет. Мы с самого детства были лучшими подругами и учились в одной школе. И всегда жили в одном доме.
В конце концов Беатрис распрямилась и, отвернувшись, пробурчала:
– Не вешай нос. У нас в квартире тебе жить негде, слишком тесно. Но если вдруг захочешь вести разбойничью жизнь на улице, мои братья с радостью тебе помогут. Только знай: вот стану я прославленной сыщицей – и живо тебя поймаю. Всё по-честному.
Я обхватила подругу за шею и прижалась лицом к ее пальто.
– Как же я буду без тебя?
– Честно говоря, не знаю, – ответила Беатрис, поглаживая меня по макушке. Я почувствовала, что она улыбается. – Но тебе и не придется. Ты же не на Луну переезжаешь? Если я тебе понадоблюсь, возьми и напиши мне. Я всегда отвечу.
В конце концов мы окончательно замерзли, поэтому пошли вместе домой мимо покосившихся вонючих уборных, мимо деревянных кадок с углем, мимо сваленной в кучи грязной одежды, приготовленной для стирки. Беатрис попрощалась со мной у дверей и умчалась – наверняка опять что-то разнюхивать, а я в одиночестве поплелась вверх по скрипучей лестнице. На пятом этаже я тихо проскользнула в нашу квартиру. В кухне было чисто, под старым полотенцем остывал еще горячий, только вынутый из печи содовый хлеб1. Новая шляпа была убрана в коробку, а на стуле лежал один из наших подержанных чемоданов и ждал, когда я уложу в него свои вещи. Мама, наверное, куда-то ушла – дома ее не было.
В кухне было три двери. Одна вела в коридор. Другая, по правую руку, – в крошечную гостиную, где жили мы с мамой. А третья, по левую руку, – в просторную спальню. Там обитали наши квартиранты – они недавно приехали из Ирландии. У них было четверо маленьких детей, и вся семья ютилась в одной комнате. Я прислушалась – тишина, значит, их нет дома.
Я повернула направо и вошла в гостиную, где на полу лежали наши набитые соломой тюфяки: для нормальных кроватей не хватало места. Подойдя к дальней стене, я уставилась в единственное окно. Оно выходило на улицу. Снаружи была пожарная лестница. Я не вылезала на нее больше трех лет. Но если завтра утром мы с мамой уедем, больше такой возможности у меня не будет, поэтому медлить нельзя. Очень важно это увидеть.
Стиснув зубы, я распахнула окно и выбралась на лестницу.
В нашем квартале с верхних этажей открывался вид на Ист-Ривер и несколько островов: Норт-Бразер и Саут-Бразер, Рэндаллс и Уордс, а вдали просматривался остров Блэквелл. Хелл-Гейт – опасный узкий пролив рядом с Куинсом – отсюда тоже было видно. Холодный ветер неприятно щипал мне щеки.
Папа любил этот пейзаж.
На высоте он чувствовал себя уверенно и почти всю жизнь работал на опасных строительных площадках – мостах и всяких высоких зданиях.
– Мы, ирландцы, расходный материал, – с ухмылкой говорил он. – К счастью, равновесие у меня хоть куда.
Да, папа никогда не боялся высоты. А с ним не боялась и я – по крайней мере, не так сильно. Мы садились рядышком, бок о бок, и свешивали ноги с лестницы. Папа рассказывал о бейсболе, скручивая папиросы, и табачный дым плыл над улицами, что лежали внизу. Мы сидели так часами, наблюдая за проходящими по реке пароходами, которые баламутили вокруг себя воду.
– Ты только глянь на этих тягачей, – говорил папа.
Он любовался даже судами, груженными мусором и бочками с нечистотами, – они сбрасывали городские отходы в Атлантический океан. Иногда он показывал на какой-нибудь миловидный кораблик.
– Знаешь, я сюда приплыл на таком же красавчике.
От таких воспоминаний стало больно, но я все же присела на площадку подальше от края и сцепила руки в замок. Теперь реку было видно не полностью: недавно построенный дом на соседней улице загораживал мне обзор. Но если закрыть глаза, картинка все равно всплывала в голове.
В конце концов, мне хотелось увидеть вовсе не реку.
Я пыталась мысленно представить папину улыбку. Услышать его смех. Хотела еще разок почувствовать, что папа рядом. Пока я не уехала отсюда далеко-далеко.
И вдруг – как будто в палец ткнули иголкой – перед глазами всплыла ясная картинка.
Воспоминание, которое мне хотелось забыть.
Было утро. Лето. Мне почти пять лет.
Со всей осторожностью, чтобы не расплескать, я, как всегда, несла к лестнице чашку кофе для папы. Иногда мама шла рядом, чтобы в случае чего помочь мне, но в тот день ее не было дома. И когда я выбралась на залитую солнцем площадку пожарной лестницы, то увидела исполненный ужаса папин взгляд. Он схватил меня за локоть, дергая за рукав и тыча куда-то пальцем, и горячий кофе выплеснулся мне на руку. От такого ожога наверняка остался бы шрам, но я не расплакалась, а папа даже не заметил этого. Потому что мы оба неотрывно смотрели на реку.
Там был пароход. Огромный.
От его корпуса валили клубы густого черного дыма.
Я видела раньше пожары. В Бронксе постоянно загорались дома вроде нашего – из тех, что стояли тесно и были битком набиты жильцами: то угольный утюг опрокинется или кто-то оставит его горячим без присмотра; то искры из камина вылетят и попадут на ковер; то кто-нибудь заснет с раскуренной трубкой во рту. А в Нью-Йорке, где старые здания лепятся друг к дружке, занявшийся пожар потушить трудно. Позже, уже учась в школе, я прочитала о трех Великих пожарах нашего города: тогда огонь стремительно охватывал всё вокруг и погасить его не удавалось, а один из этих пожаров было видно из самой Филадельфии.
Но столь огромного пожара, как в тот день, мне еще не доводилось видеть. Это было страшнее всего, о чем я читала в книгах.
На таком большом расстоянии от нашего дома до реки ветер, дувший в другую сторону, не доносил до нас запаха гари от корабельных палуб, пожираемых огнем, – он перекинулся из фонарной кладовой, где было полно соломы и промасленной ветоши. Мы не задыхались от вони пробковой трухи, исходившей от гнилых спасательных кругов. Но мы видели яркие световые вспышки – иногда по две за раз, иногда больше.
Некоторые пассажиры прыгали в воду. Некоторых скидывали за борт. Некоторые переваливались через леера.
Падали.
Вращались в полете.
И исчезали в темной бурлящей воде.
В то утро 1904 года я крепко вцепилась в папину загрубевшую руку своей, ошпаренной, и не отпускала.
«Генерал Слокам» в отчаянии повернул к острову Норт-Бразер, неся на верную смерть тысячу с лишним женщин и детей.
Но вчера мне некого было взять за руку.
Я провела большим пальцем по месту, где под варежкой был бледный шрам от ожога, и вернулась в комнату.
Решившись выбраться на пожарную лестницу, я надеялась найти счастливые воспоминания, которые можно увезти с собой в новый дом. А нашла горящий пароход.