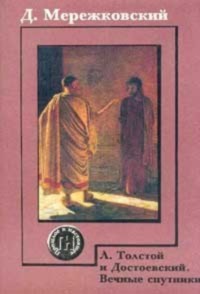Cytaty z książki «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»

Достоевский – человек, дерзающий беспредельно сомневаться и в то же время имеющий силу беспредельно верить.

Нигде так не чувствуешь прелести весны, как в Петербурге. Надо прожить семь, восемь месяцев в душной комнате без воздуха, без солнца, без листьев, чтобы понять, какая это радость, какое умиление – наша северная весна.
Городскую поэзию Фофанова можно бы сравнить с благоуханием только что распустившихся деревьев между стенами петербургских домов. Среди болезни, лихорадочного бреда, нищеты, спертого комнатного воздуха, тяжелого сплина, близкого к сумасшествию, вы чувствуете вдруг эту робкую, беспомощную ласку неумирающей поэтической молодости, вечной весны. У немногих счастливых и здоровых поэтов она кажется такой упоительной!

Наше время должно определить двумя противоположными чертами – это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально-противоположных миросозерцании. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний.
Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на современной литературе.
Преобладающий вкус толпы – до сих пор реалистический. Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму. Пошлая сторона отрицания, отсутствие высшей идеальной культуры, цивилизованное варварство среди грандиозных изобретений техники – все это наложило своеобразную печать на отношение современной толпы к искусству.

Когда Дух Божий проносится над землей, никто из людей не знает, откуда Он летит и куда… Но противиться ему невозможно.
Он сильнее человеческой воли и разума, сильнее жизни, сильнее самой смерти.
1892 г.

Иногда взбираешься по скучной петербургской лестнице куда-нибудь на пятый этаж: чувствуешь себя раздраженным уродливыми и глупыми житейскими мелочами. И вдруг, на повороте, из приотворенных дверей чужой квартиры донесутся звуки фортепьяно. И Бог знает, почему именно в это мгновение, как никогда прежде, волны музыки сразу охватят душу. Все кругом озаряется как будто сильным и неожиданным светом, и понимаешь, что никаких, в сущности, огорчений, никаких житейских забот нет и не было, что все это призрак, а есть только одно в мире важное и необходимое, то, о чем случайно напомнили эти волны музыки, то, что во всякое мгновение может так легко и неожиданно освободить человеческое сердце от бремени жизни.
Так действуют маленькие поэмы Чехова. Поэтический порыв мгновенно налетает, охватывает душу, вырывает ее из жизни и так же мгновенно уносится. В неожиданности заключительного аккорда, в краткости – вся тайна не определимого никакими словами музыкального очарования. Читатель не успел опомниться. Он не может сказать, какая тут идея, насколько полезно или вредно это чувство. Но в душе остается свежесть. Словно в комнату внесли букет живых цветов, или только что вы видели улыбку на милом женском лице…

Незадолго перед смертью он прочел рассказ Чехова «Степь» и с радостью приветствовал новый талант. Он искренно восторгался его непосредственным чувством природы, здоровьем, спокойною любовью к жизни, уверял, что «Степь» как будто исцелила и на минуту заставила его позабыть страдания.
В самом деле, Гаршин глубже, чем кто-либо, по закону психологической противоположности должен был почувствовать силу Чехова. Трудно найти больший контраст художественных темпераментов.

«Сон Макара» стоит совершенно одиноко в молодой народнической литературе. Как лучшие рассказы В. М. Гаршина, – это лирическая поэма в прозе. Когда вы давно ее не перечитывали, в душе остается неизгладимое воспоминание о ней, как о величавом сновидении, как о торжественной и грозной мелодии, подобной шуму лесов над сибирскою тундрой.
Вот – чистейшая религиозная легенда, детская, наивная и глубокая, как лучшие легенды прошлых веков.

Паскаль был одержим непрерывным чувством тайны мира, чувством бездны, физиологическим страхом Непознаваемого, который у философа XVII в. едва не переходит в сумасшествие. Достоевский одержим не страхом, а любовью к бездне. Ему нечего бояться ее, он никогда не выходил из нее. Она не рядом с ним, как у Паскаля, а в нем самом. Каждый из нас носит в себе эту внутреннюю психологическую бездну. Но сознание наше только скользит по ее поверхности: мы живем и умираем, не познав своей сердечной глубины.
Достоевский даже не боится смерти, как Толстой. Для него почти нет этого страшного перехода, этой границы между жизнью и смертью.

Безнравственность Ставрогина, Ивана Карамазова – не от бессилия и пошлости, а от избытка силы, от презрения к жалким земным целям добродетели – напоминает безнравственность Печорина, так же, как весь мистицизм Достоевского, в преемственной глубокой связи с мистицизмом Лермонтова.

Высочайшее нравственное значение искусства вовсе не в трогательных нравственных тенденциях, а в бескорыстной, неподкупной правдивости художника, в его бесстрашной искренности. Красота образа не может быть неправдивой и потому не может быть безнравственной, только уродство, только пошлость в искусстве – безнравственны.