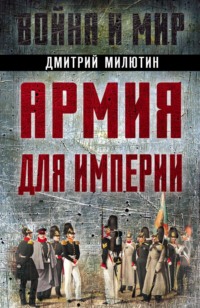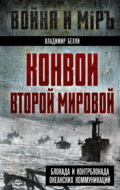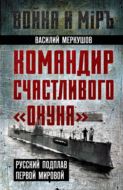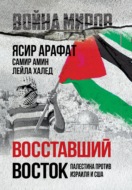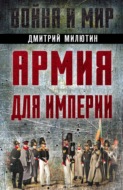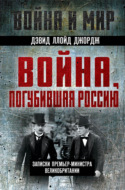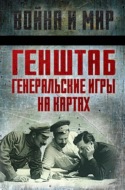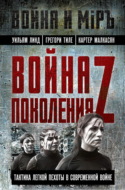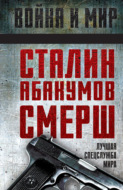Czytaj książkę: «Армия для империи»
© Милютин Д.А., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
* * *
Последний фельдмаршал России
Дмитрий Алексеевич Милютин родился в Москве, в дворянской семье, сыгравшей заметную роль в истории России середины XIX века. Он был старшим из трех братьев, каждый из которых, как говорится, достиг высоких степеней. Средний брат Николай приобретет широкую известность как политический деятель эпохи Великих реформ, внесший значительный вклад в проведение крестьянской реформы 1861 года, а младший брат Владимир станет видным экономистом и публицистом. По материнской линии родственником братьев Милютиных был еще один выдающийся реформатор XIX века – генерал и министр государственных имуществ времен Николая I, граф Павел Дмитриевич Киселев.

Дмитрий Милютин
Будущий военный министр учился в престижнейшем благородном пансионе при московском университете. Продолжил образование в Петербурге, в военном университете, где глубоко изучал геодезию и топографию. Обладал научным складом ума, это сказалось рано. Уже в 16 лет Милютин стал автором труда «Руководство к съёмке планов», который благосклонно оценили специалисты. Дмитрий Алексеевич поступил на службу в Генеральный штаб, но находился там недолго. Уже через три года молодой поручик пожелал отправиться на Кавказскую войну для знакомства с методами ведения боевых действий в крайне сложном регионе. Там он получил тяжелое ранение и чин капитана, а также был награжден двумя орденами – св. Станислава третьей степени и св. Владимира четвертой.
В 1840-х годах Милютин путешествовал по Европе, изучая военное дело. Прирожденный аналитик, он отмечал то, что России стоит перенять из западного армейского опыта. Так, Милютин пришел к выводу, что русскую армию необходимо как можно скорее вооружить нарезным оружием по примеру Франции. Позже он преподавал на кафедре военной географии столичной Военной академии и занимался научной деятельностью. Самый известный фундаментальный труд Милютина посвящен Итальянскому походу А.В. Суворова, полководца, перед памятью которого он преклонялся. За эту работу Д.А. Милютин был награжден Демидовской премией и получил статус члена-корреспондента Петербургской Академии наук. Дмитрий Алексеевич стал «ученым консультантом» при тогдашнем военном министре В.А. Долгорукове, а в 1853 году сопровождал Николая I в поездке в Ольмюц и Потсдам, где участвовал в переговорах с Австрией и Пруссией о возможности совместных действий в случае войны. В 1854 году Милютин, будучи уже генерал-майором, стал делопроизводителем Особого комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, который был образован под председательством наследника престола великого князя Александра Николаевича. В 1856 году Дмитрий Алексеевич составил две записки: «О необходимости разрешения вопроса о крепостном состоянии, с приведением данных по истории Австрии, Пруссии, Остзейских губерний» и «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы». В них он рассуждал об экономической несостоятельности и политической опасности сохранения крепостного права – системы, при которой невозможно реформировать армию. Скандал, вызванный этой статьей вынудил Милютина подать в отставку. Но менялись настроения при дворе – и вскоре его назначили начальником Главного штаба Кавказской армии. В 1859 году он участвовал в операции по взятию аула Гуниб и пленению лидера горцев имама Шамиля. Он получил чин генерал-адъютанта свиты, в августе 1860 года был назначен товарищем (заместителем) военного министра Н.О. Сухозанета, а в ноябре 1861 года сам занял министерское кресло.
Он начал проводить в жизнь масштабную военную реформу. Высшей тактической единицей в «милютинской» пехоте и кавалерии стала дивизия, в артиллерийских и инженерных войсках – бригада. Следующей целью министра стало приведение в действие «Устава о воинской повинности», заменившего рекрутскую повинность. Если ранее рекрутские наборы проводились только из податных сословий (крестьян и мещан), то отныне воинская повинность распространялась на все мужское население России. В первой статье документа написано: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». По новому уставу впервые вводится институт «запаса» и сокращаются сроки прохождения службы. Служить полагалось 15 лет: 6 непосредственно в строю (для флота – на год дольше), а оставшиеся годы надлежало находиться «в запасе», то есть жить и работать дома, но быть готовым в случае мобилизации вернуться в действующую армию.

Дмитрий Милютин
По приказу министра в частях создавались школы и курсы, открывались военные гимназии и юнкерские училища. Женские врачебные курсы на более массовом уровне, чем прежде, готовили армейских медиков. Усилиями Милютина в армии были отменены бесчеловечные и унизительные наказания шпицрутенами и розгами.
Реформы вызывали серьезное противодействие. Слухи об отставке Милютина не прекращались. Его обвиняли в разрушении армии, славной своими победами, в демократизации ее порядков, что вело к падению авторитета офицеров и к анархии, и в колоссальных расходах на военное ведомство. Следует отметить, что бюджет министерства действительно только в 1863 году был превышен на 35,5 млн рублей. Противники Милютина предлагали урезать суммы, отпускаемые военному ведомству, настолько, что потребовалось бы сократить вооруженные силы наполовину, вообще прекратив рекрутские наборы. В ответ министр представил расчеты, из которых следовало, что Франция тратит на каждого солдата 183 рубля в год, Пруссия – 80, а Россия – всего лишь 75 рублей.
Милютин был не просто сторонником, но активным проводником реформ, считался либералом. Но это преувеличение. Министр выступал за решительное подавление инакомыслия, был монархистом и сторонником внешней экспансии Российской империи. Он говорил: «Англичане не оглядываются на нас, завоевывая целые царства, занимая чужие города и острова, и мы не спрашиваем у них, зачем они делают это».
Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. император Александр II удостоил Дмитрия Алексеевича Милютина графского титула. Он всегда мог опереться на поддержку самодержца, с которым явно нашёл общий язык. Именно такой военный министр требовался императору-жизнелюбу – трудоспособный, склонный к аналитической работе, не чуждый светских манер. Между ними практически не возникало противоречий. Такое бывает крайне редко – и с другими монархами Милютину вряд ли удалось бы найти общий язык. Он понимал и ценил это.
Вскоре после гибели Александр II Милютин подал в отставку, отклонив предложение нового монарха стать наместником на Кавказе. В его дневнике появилась тогда такая запись: «При настоящем ходе дел, при нынешних деятелях в высшем правительстве мое положение в Петербурге даже в качестве простого, безответного свидетеля было бы невыносимо и унизительно». Его не устраивала политика Александра III, решившего «заморозить» Россию, прекратив серию реформ. Милютин считал, что такой консерватизм ни к чему хорошему не приведёт.
С этого времени большую часть жизни Дмитрий Алексеевич стал проводить в своем крымском имении в Симеизе, но иногда бывал и в двух столицах. В день коронации Николая II Милютин получил высший по табели о рангах чин, став последним в Российской империи генерал-фельдмаршалом. С этим высоким званием, полученным за прежние заслуги и, главным образом, из уважения к сединам, он и вошёл в историю, хотя действующим фельдмаршалом никогда не был. Недоброжелатели называли его «кабинетным стратегом», но это вопиюще несправедливая оценка. Он был и теоретиком, и практиком. Хотя как теоретик и организатор армии проявил себя ярче, чем в тактике и непосредственно при боевых действиях. В итоге он стал кавалером всех российских орденов и дольше всех в истории царской России возглавлял военное ведомство – 20 лет.
Граф скончался в глубокой старости, на 94-м году жизни, 25 января 1912 года, в своем крымском имении, всего на два дня пережив супругу, с которой они прожили вместе 69 лет. Реформатор русской армии застал всех (!) русских императоров XIX века. В год смерти стратега в печати появилось его своеобразное завещание – «Старческие размышления о современном положении военного дела в России», написанные на десятом десятке жизни. По тезисам этого примечательного сочинения видно, что он сохранял здравый ум и интересовался новейшими тенденциями армейской жизни, отлично понимая, что в ХХ веке важную роль в войнах будут играть техника и образование. Почти все свое состояние Дмитрий Милютин оставил армии, богатую библиотеку передал родной Военной академии, а имение в Крыму завещал Российскому Красному Кресту.
Литературное наследие Милютина огромно. Министру не требовались секретари, он умел выражать свои мысли. Читать его не только полезно, но и увлекательно. Это исторический документ огромной силы и полезнейший материал для современных офицеров, армейских управленцев и всех, кто неравнодушен к прошлому и настоящему военной науки и системы.
Евгений Тростин
Суворов. Портрет русского полководца
Кончина принца Оранского, молодого человека, подававшего блестящие надежды своими воинскими дарованиями, поставила австрийское министерство в крайнее затруднение относительно назначений нового главнокомандующего союзной армией в Италии. Сначала внимание обратилось на принца Фердинанда виртембергского; но выбор этот был отклонен под предлогом неприятных отношений венского двора к брату принца, владетельному герцогу Виртембергскому. За тем решено было вверить армию венгерскому палатину эрц-герцогу Иосифу; но молодой принц никогда еще не бывал на войне. Мог ли юноша, неопытный в деле воинском, бороться с французскими генералами, снискавшими уже боевую знаменитость? Невыгоду эту министерство австрийское полагало устранить назначением молодому эрц-герцогу помощника и руководителя из числа опытных генералов. Но и тут представилось затруднение в выборе: между старшими генералами австрийскими одни были известны более поражениями, чем победами; другие не пользовались достаточным доверием императора, или лучше сказать министра его, который опасался с их стороны происков и козней. После долгих колебаний, венский двор вынужден был наконец прибегнуть к императору Павлу и просить его о назначений помощником и руководителем эрц-герцогу русского генерала, «знаменитого мужеством и подвигами». Император Франц решился вверить судьбу своего оружия и своей монархии – фельдмаршалу графу Суворову.

Генералиссимус Александр Суворов
Просьба венского двора была принята императором Павлом с живой радостью. Государь, прочитав два раза письмо своего союзника, сказал бывшему при этом графу Ростопчину: «Вот, Русские на все пригодятся! порадуйся!» (См. прилож. I). Немедленно же флигель-адъютант Толбухин отправлен к Суворову, в новгородскую его деревню Кончанское, где старый фельдмаршал жил в изгнании уже почти два года.
Что же побудило венский двор избрать главным действующим лицом в предстоявшей войне семидесятилетнего старика, скрывавшегося в глуши деревенской? Что заставило надменного австрийского министра, откинув всякую национальную гордость, прибегнуть к иноземцу, который, по-видимому, и в отечестве своем уже предан был забвению?
Несмотря на временное удаление Суворова, слава его гремела в народе; войска одушевлялись при одном имени его; рассказы о дивных подвигах Суворова, перемешанные с бесчисленными подробностями о странностях его, переходили из уст в уста, переносились от чертогов царских до хижины поселянина. В целой Европе знали маленького русского генерала, который наводил такой ужас на польских конфедератов и так удачно расправлялся с турками. Но в особенности Австрийцам он был знаком с кампаний 1789 г., когда он выручал два раза принца Кобургского и одержал вместе с ним две блистательные победы, при Фокшанах и на Рымнике, за что и возведен был в достоинство графа Римской Империи. Кроме того венский двор должен был вспомнить, что еще в 1796 г. императрица Екатерина, вознамерившись послать на помощь Австрии русские войска, поручала начальство над ними Суворову.
Впрочем, не все из современников судили одинаково об этом замечательном человеке: едва ли даже о ком-либо другом мнения были столь противоположны. Обожаемый солдатами, прославляемый народом, Суворов имел и фанатических поклонников, и строгих судей, и непримиримых врагов. Одни преклонялись безотчетно пред его несомненным гением; другие осмеивали его странности и шуточные выходки; многие смотрели на него, как на загадку психологическую. В сочинениях, изданных и при жизни еще Суворова, и вскоре по кончине его, находим те же резкие крайности: в пасквилях, выходивших во Франции и частью в Германий, представляли русского полководца каким-то полудиким варваром, гением разрушения, кровожадным, жестоким; сделали из него пугало для детей. Большая же часть русских жизнеописаний походит на панегирики, в которых перемешаны, без строгой критики, факты истинные с анекдотами вымышленными или переиначенными. Многие из этих анекдотов вошли уже в число преданий народных, так что теперь и трудно очистить истину от примеси баснословной.
Однако же, с другой стороны, беспристрастнее может быть суждение потомства, чем современников. Для Суворова ныне потомство уже наступило. Постараемся же, сколько можно в кратком очерке, обрисовать личность этого необыкновенного человека, занимающего главное место в числе действующих лиц в описываемой войне.
Чтобы постигнуть личность столь оригинальную и своеобразную, необходимо проследить, как постепенно развился этот необыкновенный характер. С самого малолетства и во всю жизнь Суворов шел своим особым путем, не тем, который был обычной колеей большинства. Он не был с колыбели записан в полк, как большая часть баричей того времени; казалось даже, он и не рожден был для военного поприща: малорослый, сухощавый, он был ребенком слабого сложения. Отец его – хотя сам заслуженный генерал – предназначал своего сына к службе гражданской и потому заставлял его с малолетства учиться языкам и наукам. Юноша показывал и охоту к учению, и способности. Он был ума бойкого, живого, и рано обнаруживалась в нем необыкновенная твердость характера. Попадавшиеся ему книги прочитывал он с жадностью; особенно же пристрастился к Плутарху и Корнелию Непоту: такое чтение настроило душу его к высоким помыслам, вселило в нее честолюбие и любовь к славе. Десятилетний Суворов мечтал уже как бы сделаться великим мужем. Из всех родов славы, более всех пьянила его слава воинская; и вот он принялся усердно читать походы Александра Македонского, Цезаря, Карла XII; начал изучать фортификацию по каким-то старым отцовским книгам; во что бы ни стало захотел он быть воином. Родитель его, после многих возражений, уступил явной наклонности сына, и на двенадцатилетнем возрасте записал его в один из гвардейских полков (Семеновский). Вскоре за тем, на пятнадцатом году, Суворов поступил в тот же полк уже на действительную службу рядовым, и девять лет нес солдатскую лямку, постепенно проходя все низшие звания: капрала, унтер-офицера и сержанта (см. прилож. II). Только в 1754 г., на двадцатипятилетнем возрасте, Суворов произведен в первый офицерский чий, поручиком в армию: в эти лета многие из его сверстников были уже генералами или по крайней мере полковниками.
Такое начало служебного поприща имело весьма важное значение в жизни Суворова. Прожив долго вместе с солдатами, он совершенно сроднился с их бытом, с их привычками, с их языком. Всем известно, что Суворов и в высших чинах вел жизнь спартанскую: не иначе спал, как на соломе или на сене; вставал с зарей; довольствовался пищей самой простой; одевался весьма легко, даже зимой; ненавидел всякую роскошь; избегал званых обедов, пиров; изгонял все, что только могло нежить тело и размягчать душу. Придворную жизнь, общество женщин, городские увеселения считал он вредными для воина. Настоящая сфера его была в лагере, на биваке, в походе. Приучившись с молодых лет к такому строгому образу жизни, Суворов, можно сказать, переделал даже натуру свою: здоровье его укрепилось; с виду тщедушный и слабый, он однако же выносил лучше других и утомление, и непогоду, и лишения всякого рода.
Конечно не без умысла Суворов старался во внешней своей жизни применяться к солдатскому быту. Но как ошибались те, которые почитали его в самом деле простым, невежественным солдатом, одаренным только каким-то инстинктом военным! Суворов, как мы видели, получил еще в родительском доме такое приготовительное образование, какого не получали обыкновенно военные люди того времени. Тогда существовало еще в полной силе то поверье, что для военной службы учиться не нужно, ибо невежество не считалось недостатком. Суворов, напротив того, вынес из дома родительского уважение к науке и жажду знания; не успев кончить начатое воспитание, он дополнял его в последствии самоучкой. Уже в чине офицерском, в свободное от службы время, вместо обыкновенных развлечений праздной молодости, запирался он в свою комнату, прилежно учился и много читал. Этой любви к науке Суворов не изменил во всю жизнь свою, и точно также, как во дни юности, благоговел всегда пред великими историческими именами, которые поставил себе в идеал. Можно даже сказать, что военный гений Суворова, несмотря на всю оригинальность свою, выработался под влиянием классических впечатлений.
Занятия умственные, конечно, не мешали Суворову с первых лет службы обратить на себя внимание начальников примерным усердием и точностью в исполнении своих обязанностей: как прежде был он солдатом самым исправным в полку, так потом и офицером самым ревностным; он считался, как говорится, «служакой». Одаренный от природы необыкновенной энергией и силой воли, Суворов принимался за все с жаром, с любовью, и ничего не делал наполовину. Службе предался он вполне, всей душой, и строгое выполнение обязанностей своих доводил до педантизма. Поэтому на него преимущественно возлагались служебные поручения, требовавшие распорядительности и точности. Еще сержантом был он послан за границу с депешами: в Варшаву и Берлин. Спустя, два года по производству в офицеры (1756), он состоял обер-провиантмейстером, потом генерал-аудитор-лейтенантом; затем, в 1758 г., когда русские войска выступили в поход в Пруссию, Суворов в чине премьер-майора формировал третьи батальоны в Лифляндии и Курляндии, и был комендантом в Мемеле. Выпросив дозволение отправиться в действующую армию, он был немедленно же назначен в должность «генерального и дивизионного дежурного» при генерале Ферморе. Первые опыты Суворова, собственно на боевом поприще, были при занятии Кроссена и в сражении под Кунерсдорфом. В последние кампании Семилетней войны он состоял в отряде генерала Берга, и командовал сам отдельными легкими отрядами. Генерал Берг отозвался о подполковнике Суворове, как об отличном кавалерийском офицере, «быстром при рекогносцировке, отважном в битве и хладнокровном в опасности». В этих партизанских наездах впервые обнаружились и, быть может, зародились те свойства Суворова, которые в последствии составляли главные отличительные черты всех его военных действий: предприимчивость, энергия, решимость, находчивость.
Присланный в 1762 г. из Пруссии в Петербург с донесениями к императрице, – Суворов тут в первый раз имел случай представиться Екатерине Великой. Тогда же он произведен был в полковники, в Астраханский пехотный полк, стоявший в Новой Ладоге, и командовал им в продолжение шести лет. Он бывал с полком в столице для занятия караулов, участвовал в учебном лагере и маневрах под Царским Селом, и таким образом сделался лично известен императрице, как отличный и умный полковой командир. Но Суворову не довольно было репутаций исправного штаб-офицера; с самых молодых лет в нем кипело пламенное честолюбие; во что бы ни стало хотел он достигнуть славы и знаменитости и давно придумывал средства к тому. Наконец, одно случайное обстоятельство, как говорят, навело его на мысль: раз императрица Екатерина в разговоре выразилась, что все великие люди имели в себе что-нибудь особенное, чем отличались от людей обыкновенных. Замечание это запало глубоко в уме Суворова: он заключил, что одни достоинства и заслуги не могут проложить пути к известности; что надобно прежде всего дать заметить себя чем-нибудь особенным, отделиться от большинства людей; одним словом, что надобно сделаться оригинальным. Так, по крайней мере, можно всего вероподобнее объяснить начало тех странностей, которыми действительно Суворов успел скоро обратить на себя общее внимание; начав с легких шуток, приговорок, мало-помалу сделался он вполне чудаком: и в разговоре, и в письме, и в походке, и в самой службе. Отбросив общепринятые внешние формы приличия, Суворов ничего не делал как другие люди: говорил отрывисто, какими-то загадочными фразами, употреблял свои особые выражения, кривлялся, делал разные ужимки, ходил припрыгивая. Применяясь к солдатскому быту, он довел до крайности свой спартанский образ жизни: вставая с зарею, бегал по лагерю в рубашке, кричал петухом, обедал в восемь часов утра; притворялся, будто не может выносить зеркал, боясь увидеть в них самого себя. В одежде своей Суворов также не соблюдал общей формы: часто в летний жар являлся даже перед войсками вовсе без мундира, только в рубашке и холщевом нижнем платье; иногда же носил белый китель с красным воротником. Головной убор его состоял обыкновенно из маленькой каски с черным пером. В зимнее время, в самые холодные дни имел он только летний плащ, который слыл под названием родительского; шубы никогда не носил, даже в глубокой старости. Командуя полком, он сам учил кантонистов арифметике, сочинял для них учебники, в церкви пел на клиросе и читал апостол.
В обращении с подчиненными Суворов создал себе совершенно свою, особую систему: строгий к каждому в исполнении обязанностей служебных, он в тоже время не боялся сближаться с солдатами, шутить с ними, забавляя их своими прибаутками. Говоря с подчиненными, требовал от них находчивости и смелости, ответов быстрых и точных; слово не знаю – было строго запрещено. Вдруг обращался он к солдату или офицеру с каким-нибудь странным, нелепым вопросом, – и немедленно же надобно было отвечать ему, хотя бы такой же нелепостью: кто ответить остро, умно – тот молодец, разумник; кто смутится, замнется – тот немогузнайка. Обыкновенные фразы вежливости, приличия, ответы неопределенные, уклончивые преследовал он особыми своими терминами: «лживка, лукавка, вежливка» и пр.
Даже в обучении своего полка, Суворов позволял себе разные странности: вдруг соберет его ночью, по тревоге, и поведет в поход; водит несколько дней сряду; переходит чрез реки вброд и вплавь; держит войска в строю на морозе или в сильный жар. Раз проходя мимо какого-то монастыря, в окрестностях Новой Ладоги, вдруг велел он полку своему атаковать эту мирную обитель и штурмовал стены по всем правилам. На Суворова жаловались за эти проказы, – но все прощалось чудаку.
Действительно, Суворов своими странностями вполне достиг предположенной цели: о нем, разумеется, начали говорить в Петербурге; бесчисленные анекдоты о его проделках дошли до самой императрицы. Государыня, зная уже Суворова как умного человека и отличного полкового командира, милостиво улыбнулась, слыша о его проказах. Проницательный взгляд Екатерины умел открыть в Суворове истинные достоинства под комической маской, которую он на себя надел. Всякого другого подобная маска сделала бы смешным шутом; Суворов, напротив того, умел заслужить общее уважение, и в особенности солдатам внушил неограниченную к себе любовь; они звали его не иначе, как отцом родным. Все подчиненные, которым случалось быть в близких отношениях к Суворову, делались почти фанатическими приверженцами его. Дело в том, что во всех действиях Суворова, в его речах, даже в его шутках и проказах, под самой странной оболочкой всегда просвечивал особый, оригинальный ум: здравый, прямой, но вместе с тем иронический, даже с примесью некоторой своего рода хитрости, – тот именно род ума, который так свойствен русскому человеку. И в самом деле, Суворов по природе был, можно сказать, типом человека русского: в нем выразились самыми яркими красками все отличительные свойства нашей национальности, – а вместе с тем и во внешней своей жизни старался он систематически подражать приемам русского простолюдина и солдата: он строго соблюдал все их привычки и обычаи, умел превосходно подделываться под солдатский язык, применяться к их образу мыслей. Будучи христианином в душе, Суворов исполнял и в наружности все церковные обряды, держал в точности посты, крестился проходя мимо церкви, клал земные поклоны пред иконами. Одним словом, все действия его проникнуты были русским духом. Вот почему именно самые странности и причуды его возбуждали такое сочувствие в русских солдатах и даже обратились впоследствии в народную легенду. В этом же заключается и вся тайна того дивного нравственного влияния, которое Суворов имел на войска.
Странности и шутки Суворова имели еще и другое значение: получив самое простое воспитание, проведши юность в казармах, вместе с солдатам и, он неизбежно чувствовал бы себя в неловком положений, находясь в высшем кругу столицы или среди пышного двора Екатерины: сколько ударов пришлось бы вытерпеть его самолюбию и гордости! Вместо того, он поставил себя на такую ногу, что под кровом шутки иди поговорки высказывал всем, даже надменным вельможам, такие злые истины, которых не перенесли бы они от другого. В особенности бичевал он своими сарказмами низость и угодливость, мелкое тщеславие, высокомерие, чванливость, барскую спесь. Правда, он нажил тем много врагов; но что ему было до того, когда императрица благоволила и покровительствовала? Решившись надеть на себя маску, Суворов не мог уже потом сбросить ее, и продолжал во всю жизнь разыгрывать странную роль; он выдерживал ее так верно, что впоследствии даже трудно было отличить в нем искусственную личину от природной своеобразности характера (см. прилож. III).
Впрочем, должно заметить, что впоследствии, достигнув высших чинов, Суворов умел вполне, когда было нужно, изменять свое обычное поведение: в известных случаях, как например: при торжествах, церковных обрядах, также в разговорах с иностранными дипломатами и генералами, он совершенно отбрасывал свои странности, принимал вид серьезный; говорил дельно, сохраняя все наружные приличия; удивлял часто ясностью своих суждений и верностью взгляда. В нем были как будто две натуры: в кабинете за делами слушал он внимательно доклады, полагал резолюции, отдавал приказания, не позволяя себе никаких шуток; но лишь только дела были кончены, вдруг превращался совсем в иного человека: вспрыгивал быстро со стула, вскрикивал куш, куш, и тогда начинал по обыкновению шутить и делать всякие проказы. Всем известен анекдот, хоть может быть и вымышленный, о том, как Потемкин, видевший всегда Суворова таким странным чудаком и долго не доверявший ни уму его, ни дарованиям, должен был наконец переменить свое убеждение: рассказывают, будто бы императрица Екатерина, умевшая лучше оценить истинные достоинства Суворова, призвала однажды его в свой кабинет и завела с ним разговор о важных делах государственных, между тем как Потемкин спрятан был за ширмами: услышав основательные, глубокомысленные суждения Суворова, Потемкин не мог удержать своего изумления, вышел из-за ширм и сказал с некоторым упреком: «Как худо знал я вас до сих пор, Александр Васильевич; отчего же вы не всегда так говорите, как теперь?» Но Суворов в то же мгновение переменился, начал опять шутить и с обычными своими ужимками отвечал сильному временщику: «Этот язык берегу я только для одной матушки-царицы»…
Всем известен анекдот о шубе, подаренной ему императрицей Екатериной, в то время, когда он достиг уже высших чинов и почестей: Суворов никак не хотел надеть эту шубу, а возил ее с собой в карете.
Возвратимся, однако же, к хронологическому порядку, и взглянем, как постепенно развилась военная деятельность Суворова, а вместе с ней как возрастала и знаменитость его. Мы видели, его с первых своих опытов в Семилетнюю войну, Суворов уже выказал особенный способности к действиям малыми отрядами, к наездам партизанским. Вскоре представился ему случай еще блистательнее выказать те же качества. В 1768 г., когда направлены были русские войска в Литву и Польшу, для усмирения возникших там волнений, бригадир Суворов также получил повеление следовать туда с Суздальским пехотным полком и двумя эскадронами кавалерии: тут показал он первый изумительный пример своих быстрых переходов, сделав осенью, в распутицу, около тысячи верст в один месяц. Появление Суворова в Польше и Литве навело ужас на конфедератов, с небольшим отрядом своим бросался он стремительно то в одну сторону, то в другую, рассеивал враждебные сборища и разбивал их на голову везде, где только решались они сопротивляться, иногда в силах весьма значительных. Действуя таким образом в продолжение трех лет сряду, Суворов тут вполне уже выказал дух своих военных правил: верно рассчитать, где надо нанести удар, быстрым движением появиться внезапно перед неприятелем, атаковать его смело и решительно, – вот простые правила, которые обыкновенно выражал он сам известными тремя словами: глазомер, быстрота, натиск. Все последующие кампании Суворова были только развитием тех же основных правил; всегда выражался тот же характер действий.
В 1772 году, уже в чине генерал-майора, Суворов возвратился в Петербург, и немедленно отправился, по воле императрицы, в Финляндию, для осмотра границы по случаю ожидаемого тогда разрыва со Швецией; но дела тут уладились миролюбиво, а Суворова манили битвы и победы: он выпросился ехать в армию фельдмаршала Румянцева, которая действовала тогда в Турции. Однако же действия Румянцева, нерешительные, медленные, не удовлетворили надежд и желаний пылкого и предприимчивого Суворова. В кампанию 1773 г., состоя в корпусе Салтыкова, в Валахии, он начальствовал отдельным отрядом; но по общему оборонительному положению армии и по малочисленности своего войска, он осужден был оставаться большею частью в бездействии. Все просьбы его об усилении отряда были напрасны; он жаловался, огорчался, скучал от бездействия и, наконец, занемог. Однако же и тут, не смотря на все препятствия, нашел он случай совершить подвиги геройские: два поиска его к Туртукаю, лежавшему на правом берегу Дуная, и потом оборона Гирсова, были единственными замечательными событиями бесцветной и бесплодной кампаний и 1773 г. Суворов награжден был за эти подвиги орденом Св. Георгия 2 ст. и чином генерал-поручика. Точно также и в следующую кампанию Суворову обязан был Румянцев единственным успехом, одержанным при Кослуджи. Но Суворов, не желая оставаться под начальством Каменского и рассорившись с ним, уехал из армии еще до окончания войны под предлогом болезни.