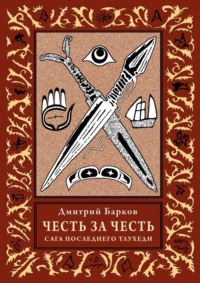Czytaj książkę: «Честь за честь. Сага последнего тлухеди»
© Дмитрий Барков, 2025
ISBN 978-5-0065-8316-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

………Дмитрий Барков………

ЧЕСТЬ ЗА ЧЕСТЬ.
САГА ПОСЛЕДНЕГО ТЛУХЕДИ
Краткая повесть о жизни народа тлинкитов
от Русской Америки до штата Аляска

Иллюстрации и художественное оформление автора
на основе фотографий и образов традиционного
изобразительного искусства тлинкитов и хайда.…

Из трилогии:
«Сомкнутый круг, или причуды разума»
«Десятки тысяч лет назад человек вышел из Северной Африки на Ближний Восток и начал медленное, но неуклонное заселение планеты. Его пути разошлись на запад и восток по почти бесконечному побережью Евразии. Они достигли Британских островов и Океании, Скандинавии и Австралии, Гренландии и Острова Пасхи. На них возникали и уходили в прошлое самые фантастические и причудливые культуры и цивилизации.
Неизбежная и, увы, трагическая встреча этих обогнувших Землю с двух сторон потоков носителей разума состоялась на просторах Нового Света…»
-Дмитрий Барков
«Когда изучаешь прошлое ради истины как таковой, быстро понимаешь, что историю любого военного завоевания можно с равным успехом изложить в любом избранном вами жанре, безо всякого ущерба для её содержания».
– Мэри Остин «Земля завершения странствий»



Всматриваясь в века и тысячелетия людского мира, я вижу не только его суровость и иллюзорность, но и сквозящую через любую ярость и боль жажду красоты и милосердия, из которых в конце концов прорастает подлинная гуманность.
-Дмитрий Барков

«КРОВЬ за КРОВЬ, ЧЕСТЬ за ЧЕСТЬ» Закон тлинкитов


«Сильны, терпеливы в трудах и крайне смелы, даже до отчаяния, любят независимость столько, что скорее захотят расстаться с жизнью, нежели со свободою, и покорить их не только трудно, но даже невозможно…
В сражении они столь отважны, что редко когда в плен отдаются живые и огнестрельным оружием научились действовать проворно и стреляют очень метко… к побеждённым же чрезвычайно жестоки и часто всех их мучают и убивают без всякой жалости».
Вице-адмирал В.М.Головнин об индейцах тлинкитах
*****
– СНОВА РУССКАЯ АМЕРИКА-
(пара слов об авторе книги)
Не стану скрывать, автор этой книги мой давний приятель. Познакомились с ним аж в далёком 1996 году. С тех пор не теряли друг друга из вида, хотя чаще всего нас разделяли тысячи километров. (Спасибо, современным средствам связи!) Объединяла же нас симпатия к американским индейцам – увлечение детства, которому остаёмся верны. А ещё, как оказалось вскорости после знакомства, был у нас общий старший товарищ – Александр Владимирович Ващенко – хороший человек, доктор филологических наук, профессор-индеанист, литератор, переводчик, вдохновитель независимого молодёжного движения индеанистов-любителей* СССР и позже Российской Федерации. Мы его искренне уважали. Следует подчеркнуть, что Дмитрий, на мой взгляд, был соратником Александра Владимировича во многих проектах (они совместно готовили доклады, публиковали переводы книг об америндах). Светлая Память преждевременно ушедшему в Мир Иной Александру Владимировичу Ващенко (1947—2013)!..
Разумеется, мы с Дмитрием весьма разные люди, но и во многом схожи. На пример, стараемся донести до сограждан достоверную информацию о Русской Америке. С огромной симпатией относимся, к причисленному Русской Православной Церковью к лику святых, духовному просветителю Аляски и Сибири, православному священнослужителю Иннокентию (Вениаминову, 1797—1879), реальному человеку, митрополиту Московскому и Коломенскому. Этнологические очерки об индейцах тлинкитах, которого мой приятель, под редактировав, включил в Приложение к своей исторической повести. Написанной, как бы очевидцем тех событий. Примечательно, что Дмитрий стилизует литературный язык того века. Многое, что ещё нас объединяет, но думаю, хватит уже перечисленного.
Одним словом, читайте книгу Дмитрия Баркова, получайте удовольствие и реальную информацию об Аляске XIX века.
Вадим А. Силантьев (создатель книжной
серии «Вестерн-История-Приключения»)

____________________________
Примечание:
* Информацию о российском движении индеанистов-любителей легко найти в Интернете.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Публикуя эту краткую повесть из жизни Русской Америки, построенной усилиями Российско-Американской Компании (РАК), я должен пояснить историю появления на свет самой её рукописи.
Родившись в Москве и с детства увлёкшись всем, что связано с дикой природой и с теми людьми, которые жили к ней ближе всего, волей судьбы я сосредоточился на Северной Америке и стал собирать всё, что мог, о её первых обитателях.
Сейчас и не припомню, в каком букинистическом магазине я набрёл на замечательную книгу апостола Аляски, митрополита Московского и Коломенского Иннокентия, в миру Ивана Евсеевича Попова-Вениаминова. Книга была издана в Санкт-Петербурге, в типографии Императорской Академии Наук в 1846 году, и называлась «Замечания о колошенском и кадьякском языках и отчасти о прочих российско-американских с присовокуплением российско-колошенского словаря, содержащего более 1 000 слов, из коих на некоторые сделаны пояснения». Не без душевного трепета я попросил её в руки и с удивлением обнаружил, что в папке, куда книга была вложена кем-то из заботливых владельцев, оказалась и стопка листов, весьма старых по виду и исписанных чернильным пером мелким и малоразборчивым почерком.
Книгу я приобрёл, конечно, без лишних раздумий, ведь даже держать её в руках было уже удовольствием. А вот до чьих-то штудий неясного содержания и назначения руки дошли не сразу. Читать эту рукопись оказалось совершенно невозможно, ибо хоть написано было вроде бы по-русски, но так, что разобрать текст было очень непросто, и потому я принялся её переписывать. Делая это для себя, я не старался копировать всё буква в букву, а исправлял ошибки не очень-то грамотного автора и лексико-грамматические несуразности языка первой половины XIX века, включая разделение на слова, которое не везде соблюдалось. Впрочем, при этом я не позволял себе ничего лишнего. Что же касается знаков препинания, так их там практически не было, и потому пунктуация вышла почти полностью моей. Кроме того, все имена и названия пришлось приводить в единый и удобоваримый для русского произношения вид.
Дело продвигалось нелегко, и окажись повествование малоинтересным, я быстро бросил бы его. Однако оно увлекло меня с первых же строк, а потом и вовсе захватило так, что остановиться было уже невозможно, пока я не добрался до самого конца этой краткой, но поистине эпохальной повести об истории столкновения двух народов, двух эр, двух культур и образов жизни.
Это оказался рассказ об истории отношений индейцев тлинкитов и русских на Аляске, причём, сделанный сыном индейской матери и русского отца. Рассказ безыскусный, но на удивление пронзительный, как скандинавская сага, повествующая в скупых, но живых словах о самой сути жизни во всех её проявлениях, как она есть, со вниманием и уважением, но без всяких прикрас, сдержанно, но от всей души.
В этой повести я открыл для себя целый мир. И потом, продираясь сквозь исторические труды, научно-популярные изложения, тлинкитские и эскимосские предания и публикуемые в печатном виде документы, я так и не вычитал для себя на эту тему ничего существенно нового: только дополнительные подробности, вариации, версии. Самое поразительное то, что версии эти порой оказывались весьма различны и даже резко противоречивы. Одни и те же события в официальных отчётах, воспоминаниях участников и записках современников резко разнились между собой; причём, то же самое относится и к индейско-эскимосским преданиям различных племён и родов.
Особенно приятно было обнаружить в этно-исторических исследованиях и индейских преданиях имя предполагаемого рассказчика. Однако встречавшийся уже в середине двадцатого века с его потомками на Ситке антрополог Р.Л.Олсон ничего существенного не обнародовал, оправдавшись нежеланием навлекать на этих людей какие-либо неприятности. Видимо, поведение автора рукописи в то драматическое время во многом определялось его положением между двух миров, что, пожалуй, объясняет и его полное молчание в отношении своей роли в описываемых событиях. Вместе с тем сегодня, когда старые распри окончательно ушли в прошлое и мы имеем счастливую возможность смотреть на произошедшее куда более объективно, я уверен, что ему не было бы нужды стыдиться своих поступков, как он и утверждает сам.
Значит ли это, что мы можем полностью доверять его рассказу? Не думаю. Ведь он такой же человек, как и все мы. Но одно я вижу точно – это его огромное стремление распознать и изложить всё именно так, как оно было. И всё же это не даёт гарантий от ошибок и замалчиваний.

В конце концов я уверился в особой ценности этого документа. Но когда, уж давно перебравшись жить и работать за океан, принялся искать по коробкам своего архива ту старую папку, так и не сумел её найти. Осталась лишь книга на полке да, слава богу, моя собственная перепечатанная на машинке рукопись, которую я и перевёл в текстовый файл на компьютере, снабдив примечаниями из исторической литературы, поясняющими многие лишь обозначенные автором подробности. Также я добавил название, подзаголовок и позволил себе разделить изначально единый текст на части с заглавиями к ним.
Жаль, что о каких-то событиях повествование рассказывает в подробностях, а о каких-то лишь в общем виде. Но в то же время это говорит о том, что автор не давал воли собственной фантазии, а лишь собирал сведения и рассказы, которые мог найти, выбирая из разных версий те, что наиболее достойны доверия.
Судя по бумаге, чернилам и прочим признакам, большая часть рукописи от начала освоения и до продажи Аляски вместе с эпилогом была создана более-менее единовременно. Дальнейшие же события записывались дополнительно по мере их свершения. Датировка этих событий говорит о том, что в этой жизни рассказчик перевалил за восьмидесятипятилетний рубеж. Последнее же дополнение, записанное по-английски, очевидно, сделано и вовсе другим человеком; возможно, кем-то из потомков автора, кто был хранителем оставленной им рукописи.
Непонятно, когда и как она попала в Россию. Но, судя по всему, это произошло по каналам церковных связей не ранее 1920 года, поскольку последнее из упоминаемых в дополнении событий произошло в декабре 1919-го.
Теперь уж, пожалуй, никогда не удастся достоверно выяснить происхождение этой своеобразной саги. Но, в конце концов, в этом ли дело? Подробности появления на свет множества произведений, особенно уходящих корнями в устную передачу, теперь никто и никогда не выяснит. Но ведь они вошли в литературу и живут там своей жизнью вне всякой зависимости от подробностей их появления на свет.
А ещё с тех пор, как я соприкоснулся с историей тлинкитов, меня весьма заинтересовала вся жизнь этого народа. Я принялся не только читать любые материалы о них, но и рассматривать старые и современные рисунки и фотографии людей, их домов, одежды, огромных лодок, оружия, произведений изобразительного и прикладного искусства. Оказалось, они смотрели на мир каким-то совершенно особым взглядом, запечатлевая своё видение на стенах домов и парадных одеждах, тотемных столбах и гербах родов и семей, носах и бортах лодок, тканых шерстяных одеялах и сундуках, и везде, где только могли. Это уникальное во всём мировом искусстве видение вошло в мои глаза и мой внутренний мир, в моё воображение и сны. Со временем я даже стал собирать произведения современных художников из племён Северо-Западного Побережья североамериканского континента, к которым относятся американские тлинкиты и их ближайшие канадские родичи хайда.
И по мере работы над подготовкой рукописи к предполагаемому изданию эти образы, порождённые во мне множеством фотографий и предметов искусства, стали проситься из головы наружу. Не будучи художником, я выбрал для этого стиль максимально обобщённых контурных линий, который прекрасно отвечал задаче запечатления моего внутреннего видения. Это был долгий и трудный, но чрезвычайно увлекательный творческий процесс, в котором и были созданы те рисунки, которые позволили художественно оформить эту книгу.
Это вовсе не иллюстрации к её тексту. Они играют совершенно самостоятельную роль, создавая тот визуальный ряд, который открывает читателю сам мир этих людей параллельно описываемой здесь истории.
Всё, что я хочу теперь, – сделать эту сагу доступной людям в надежде на то, что она найдёт своего заинтересованного читателя, возможно, первым из которых оказался я сам.
*****************************************************

ПРОЛОГ
Чувствую, годы мои идут к концу, а память, напротив, так и бурлит во мне. Как вода на огне. Будто всю свою жизнь я только и бросал дрова в очаг, смотрел, слушал, запоминал, и вот теперь огромный котёл над ним закипел.
Вспоминается всё: и что видел и пережил сам, и что услышал… Слова складываются словно сами собой. Будто рассказываю всё кому-то.
Возможно, так и складываются сказания. Повторил я всё это не раз, да вижу, что передавать некому. Даже сам я не дерзну сказывать это никому, кроме сыновей, и уж точно никто учить не станет.
Потому и решил я записать это на бумагу. Писать по-тлинкитски русской грамотой совсем резону нет. Посему по-русски писать надо, за что теперь и примусь.

ЗАЧИН
Я уже старик. Жизнь осталась позади. И чего в ней только не было.
Целая эпоха прошла, а то и две. Мир изменился и уж не вернётся вспять.
Вот и земля эта уж отошла от России к Америке, а тлинкиты1 толком и не знали, что она уж давно не их и её можно продать, у них не спросивши. Когда смотрел, как отплывал последний корабль с теми русскими, кто не пожелал остаться, и теми из тлинкитов, кто решил уйти с ними, то думал, что и сам бы взглянул, что делается там, за Великой Водой, да не те мои годы. А когда буду уходить в мир иной, то хочу видеть лица детей и внуков, кого оставлю после себя здесь.
Я рождён в старом мире: мире воинов, которые жестоко бились за свой род, впадая в священное безумие, без раздумий расставаясь с жизнью ради чести, не оставляя неотмщённой кровь родичей, и плавали на своих яку2 в дальние походы за добычей и рабами; в мире героев, могучих шаманов, великих мастеров и сказителей, которые хранили память, передавая её из поколения в поколение.
Мастера те на славу искусством своим богаты были, столбы ставя родовые резные высокие и дома дощатые с украшением резным и краской прорисованным с лицами и фигурами Ворона, Волка, Медведя, Орла, Лосося, Косатки, глазами, когтями и перьями украшенными во множестве; строя огромные яку морские; оружие, сундуки, одеяла тканые, утварь домашнюю изготовляя самые прекрасные.
Все боялись наших воинов, облачённых в могучие дощато-кожаные доспехи и толстые расписные лосиные плащи, в огромных резных шлемах, с большими щитами, вооружённых копьями и длинными кинжалами, а главное – сильных и сноровистых, умеющих биться. И безжалостных… Недаром русские как только не говорили о тлинкитах. Я слышал всякое: кровожаждущие варвары, злее самых хищных зверей, народ убийственный и злой…
Война доставляла ценное имущество, рабов, славу и была делом чести. Трудно представить мир тлинкитов без войны. И сейчас, когда этот новый безвоенный мир приходит к ним, я хочу вспомнить о том, каким он был прежде.
Британский офицер как-то рассказал мне, что в его родных краях за Большой Водой в древние времена был народ, который жил точно так же, как и тлинкиты с хайда3. И даже земля его была такой же – скалисто-лесной, с реками, морем, заливами, островами, протоками. Их звали викингами. Они тоже ходили в дальние походы на своих яку, что звались драккарами, за чужим добром и невольниками. И они были жестоки к побеждённым. Их смертельно боялись и ненавидели все. Некоторые из них приплыли на острова британцев и стали одними из их предков. Он так сказал. Я потом спрашивал у русских учёных людей. Они тоже знали об этих викингах, которых звали варягами. Даже сказывали, будто и их первые тоёны были из оных. Теперь же о них осталась лишь память в сказаниях, записаных значками на бумаге.
А что теперь будет с тлинкитами? Прежних воинов и шаманов уже нет. Никому не нужны строители и резчики яку. Останутся ли вообще сказители? Будет ли кому слагать и рассказывать предания? Я не знаю…

Неизменным остаётся одно – земля, небо, море, солнце и скрывающие его тучи, то и дело проливающиеся дождями. Русские и прочие белые люди говорили, что пришли из краёв куда солнечней наших, и по их разумению, мы живём в вечной осени. Не знаю, может, и есть где земли получше, а только предки наши пришли сюда когда-то из глубины земли с юго-востока да здесь и остались. Стало быть по нраву пришлись им края эти. Да и сами белокожие приходили в сей бессолнечный мир с разных сторон, и остаться старались многие.

*****

О СЕБЕ
Родился я в Якутате около 1795 года от русского отца и матери тлухеди4. Родителя своего я не знал, ведь он не взял мать в жёны и не жил с ней. Так что вырос я поначалу якутатским тлухеди.
Когда-то давно, никто уже не помнит когда, предки наши из народа эяков пришли к Большой Воде по рекам, чтобы быть ближе к лососю, который кормил нас, а там встретили тлинкитов, у коих многое переняли из путей жизни их и сами стали тлинкитами, как и иные из здешних дине5, с коими объединились мы в один куан.
И вот по-тлинкитски я – эякский тлинкит рода тлухеди6, а по-русски – русский креол, ибо хоть и считают они род по отцу, но и о матери не забывают. Так что свой я и для тех, и для других. Сам же для себя теперь числю оба родства, ни одного главным не почитая.
С измальства звался я Насни. А русские уж после в Ситке прозвали Живчиком. Мне оно понравилось. Но тлинкитам того не выговорить, вот и стал я Дживаком. Не помню когда, но послед и русские принялись кликать так же. Ну и добро.

БЕЛЫЕ ЛЮДИ
Когда первые корабли с белыми появились у здешних берегов, никому невдомёк было, что занялась заря новой эпохи. Да и не знали тут люди, что кроме тех путей жизни, что даны были им от начала времён, где-то существуют и совсем другие.
Но те люди принесли железо и порох, а это сразу изменило многое. Кинжалы тлинкитские7 из каменных и медных стали железными, а луки со стрелами сменились на ружья.
То была эпоха русских, которые привели с собою алеутов и чугачей с конягами8. Ведь именно они стали селиться и строить крепости на земле здешней, бить зверя морского в угодьях родов тлинкитских9, перекрывать путь рыбе по рекам. Так что пришлось тлинкитам с ними повоевать.
Бостонцы да королевские люди10 приплывали лишь торговать. С ними не возникало вражды. Впрочем, помнится, когда королевские люди поставили крепостцу в верхнем течении Юкона и стали портить торговлю, то чилкатские кагвантаны11 поплыли в набег и изничтожили её. На море те мужи королевские тоже силу и уменье тлинкитов изведали. Когда корабли их большие приплыли и ходить стали по водам здешним как хотели12, то тлинкиты, в бой с ними вступать не желая, манёвры многие предприняли, дабы слишком уж вольно те не плавали. Хоть оные и стрелять начали, но вреда особого тлинкитам не причинили ввиду того, что подставившись боком, гребцы по команде кормщика наваливались дружно на один борт, вздымая другой, который надёжным щитом прикрывал их от пуль, а когда яку шёл на противника высоким носом своим, то за оным и не видно было ничего, окромя гребущих рук с вёслами.

*****

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ
Первые русские приплыли сюда за полдюжины лет до рождения моего. Они пришли с севера и потому попали в Якутат, куан матери моей. Там их приняли за тех же торговцев, как и прочих белых корабельщиков, но они толковали об императоре своём – могучем правителе далеко за Большой Водой, который берёт земли эти под руку свою. Тлинкиты под руку ту не собирались, но подарки приняли вместе с тотемом их в виде орла двуглавого, коего потом продали чилкатцам.
Первую же партию на промысел пушной повёл по берегу в воды здешние сам Баранов13. А на неё вышел военный отряд якутатский, шедший на север, на чугачей, дабы отомстить за набег их прошлогодний. Они вышли к русскому лагерю поздним вечером и толком не разобрали, кто перед ними. Как и положено, облачась во все доспехи свои, ворвались они в расположение пришельцев поздней ночью перед рассветом. Русские потом говорили, что показались те им пострашнее адских чертей. Они повскакивали спросонья и вступили в бой как могли. Баранов метался по лагерю в одной рубахе. Когда получил он удар копьём в грудь и упал, а потом снова встал, то тлинкиты заподозрили неладное. Лишь потом узнали они о носимой им всегда кольчуге.
Они поздно поняли, с кем схватились, но в священном безумии боя даже не подумали отступить. Тем более, что пули русские не пробивали их плетёные куяки14, лосиные плащи и шлемы. И лишь картечный бой из малой пушки приостановил их. Но дрогнули они только по прибытии к неприятелю байдары с подмогой со стоявшего в море корабля. Тогда, оставив там дюжину убитых, они отошли как могли скрытно. Хоть стоила та скрытность и немного, ведь кровь раненых оставляла за ними красную дорогу, по которой и вышли к стоянке их разведчики русские. Оные и увидали подоспевший к ним на шести яку свежий отряд, вышедший в поход на кенайцев15, о чём и доложили Баранову.
Тогда русские не решились нападать на тлинкитов, сильно в числе возросших. А те убоялись продолжать сражение с русскими, с их ружьями, пушкой и кораблём в море.

Прибытие домой яку с двенадцатью стоячими вёслами и кучею раненых настолько поразило всех, что стали тлинкиты изо всех сил покупать ружья с кораблей бостонцев, а по большей части королевских людей. Так что на моей памяти уж почти каждый боец вооружался ружьём и старался взять английское, кои были много лучше русских16.
*****
*****