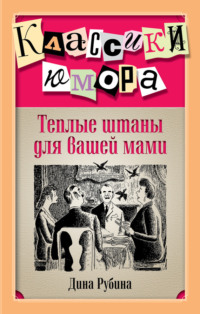Czytaj książkę: «Теплые штаны для вашей мами (сборник)»
© Рубина Д., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Камера наезжает!..
…Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника – плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов.
Мой ангел-хранитель охраняет меня без особого рвения. По должности, согласно инструкции…
Признаться, не так много со мной возни у этой конвойной хари. Но при попытке к бегству из зоны, именуемой «жизнью», мой ангел-хранитель хватает меня за шиворот и тащит по жизненному этапу, выкручивая руки и давая пинков. И это лучшее, что он может сделать.
Придя в себя, я обнаруживаю, как правило, что пейзаж вокруг прекрасен, что мне еще нет двадцати, двадцати шести, тридцати и так далее.
Вот и сейчас я гляжу из своего окна на склон Масличной горы, неровно поросший очень старым садом и похожий на свалявшийся бок овцы, и думаю о том, что мне еще нет сорока и жизнь бесконечна…
* * *
А сейчас я расскажу, как озвучивают фильм.
Несколько кадров отснятого материала склеивают в кольцо и пускают на рабочий экран.
В небольшой студии сидят:
Режиссер, он же Творец, он же Соавтор; укладчица со студии Горького, приглашенная для немыслимого дела – при живом авторе сценария сочинять диалоги под немую артикуляцию актеров, не учивших ролей и потому на съемках моловших галиматью;
второй режиссер фильма – милейший человек, так и не удосужившийся прочесть сценарий, как-то руки не дошли;
оператор в белой майке с надписью по-английски: «Я устала от мужчин»;
художник фильма, если он не настолько пьян, чтобы валяться в номере гостиницы;
редактор фильма, в свое время уже изгадивший сценарий, а сейчас вставляющий идиотские замечания;
монтажер, пара славиков-ассистентов неопределенных занятий, крутившихся на съемках под ногами;
приблудный столичный актер, нагрянувший в провинцию – намолотить сотен пять;
прочие случайные лица…
Позади всех, бессловесный и подавленный, сидит автор сценария, написанного им по некогда написанной им же повести.
Он уже не пытается отождествить физиономию на экране с образом героя его произведения и только беззвучно твердит себе, что он не автор, а дерьмо собачье, тряпка, о которую все вытирают ноги, и что пора встать наконец и объявить, что он – он, Автор! – запрещает фильм своим Авторским Правом. И полюбоваться – как запляшет вся эта камарилья…
Но автор не встает и ничего не объявляет, потому что уже вступил в жилищный кооператив и через месяц должен вносить пай за трехкомнатную квартиру…
Так вот, не знаю почему, но лучше всего на беззвучную артикуляцию актера ложится русский мат. Любое матерное ругательство как влитое укладывается в немое движение губ. Это проверено практикой.
Вам подтвердит это любой знакомый киноактер.
Боюсь, читатель решит, что я пишу юмористический рассказ. А между тем я давно уже не способна на то веселое напряжение души, которое и есть чувство юмора и напоминает усилия гребца, идущего в канавке вверх по реке… В последние годы я все чаще отдаюсь течению жизни, я сушу весла и просто глазею по сторонам. Там, на берегах этой речки, все еще немало любопытного.
Собственно, для того чтобы рассказать, как озвучивают фильм, я должна рассказать сначала, как его снимают и даже – как пишут сценарий. Не потому, что это интересно или необходимо знать, а потому, что одно влечет за собой другое.
Пожалуй даже, я расскажу вообще все с самого начала.
* * *
У меня когда-то был приятель, милый порывистый мальчик, – он сочинял песни и исполнял их под гитару затаенно-мужественным баритоном.
Он и сегодня жив-здоров, но сейчас он адвокат, а это, согласитесь, уже совсем другой образ. Кроме того, он уехал в другую страну.
Вообще-то я тоже уехала в другую страну.
Откровенно говоря, мы с ним опять живем в одной стране, но это уже другая страна и другая жизнь. И он адвокат, солидный человек – чего, собственно, и добивалась его мама.
А тогда, лет пятнадцать назад, она добилась, чтобы сын поступил на юридический. Благословенно одаренный мальчик, он поступил, чтобы мать отстала, но продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чимгана. Все помнят это обаятельное время: возьмемся за руки, друзья.
Одну из песен он по дружбе посвятил мне. Начиналась она так – «Вот на дороге черный бык, и вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт» – и далее, со звоном витражей, с боем колоколов… чрезвычайно густо.
Я так подробно рассказываю, чтобы объяснить – что это был за мальчик, хотя в конечном итоге его мама оказалась права.
Когда он как-то ненатужно защитил диплом юриста, продолжая петь, искриться и глубоко дышать разреженным воздухом фестивальных вершин, тут-то и выяснилось, что распределили его в одно из районных отделений милиции города Ташкента – в криминальном отношении не самого благополучного города на свете.
Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползалась уголовная шпана со всей простертой в холодах страны.
Так вот – Саша… Да, его звали Саша, впрочем, это неважно. С возрастом я устаю придумывать даже имена.
Он очнулся от песен следователем по уголовным делам отделения милиции, скажем, Кировского района города Ташкента: ночные дежурства с выездами на место происшествия, выстрелы, кровь на стенах, допросы, свидетельские показания, папки, скоросшиватели, вещественные доказательства, опознания личности убитой… – месяца на два он вовсе пропал из моей жизни.
Когда же появился вновь, я обнаружила гибрид бардовской песни с уголовной феней. В своем следовательском кейсе он таскал подсудимым в тюрягу «Беломор».
Как всякий артистически одаренный человек, он был отчаянным брехуном. Загадочный, зазывно-отталкивающий мир открывался в его историях: тюремная параша, увитая волшебным плющом романтики. Какие типы, какая речь, какие пронзительные детали!
Разумеется, я написала про все это повесть – я не могу не взять, когда плохо лежит. Правда, перед тем как схапать, я поинтересовалась, намерен ли он сам писать. Забирай, разрешил он великодушно, когда я еще соберусь! (И в самом деле – не собрался никогда.)
Несколько раз я ездила с ним в тюрьму на допросы – нюхнуть реалий. Кажется, он оформлял эти экскурсии как очные ставки…
Я уже не помню ничего из экзотических прогулок по зданию тюрьмы – любая экскурсия выветривается из памяти. Помню только во внутреннем дворе тюрьмы старую белую клячу, запряженную в телегу, на которой стояли две бочки с квашеной капустой, и – высокий сильный голос, вначале даже показавшийся мне женским, из зарешеченного окошка на третьем этаже:
Те-чет ре-еченька по песо-очечку,
Бережочки мо-оет,
Воровской парень, городской жулик
Начальника про-осит:
То ли акустика закрытого пространства сообщала этому голосу такую льющуюся силу, то ли и впрямь невидимый певец обладал незаурядными голосовыми связками, но только тронула меня в те мгновения эта песня, сентиментальная до слюнявости (как все почти блатные песни).
Ты начальничек, винтик-чайничек,
Отпусти до до-о-му…
Видно, скурвилась, видно, ссучилась
Милая зазно-оба…
Несколько минут, задрав головы, мы с Сашей слушали эту песню, удивительно кинематографически вмонтированную в кадр с грязным двором, с бочками воняющей прокисшей капусты, с розовым следственным корпусом, по крыше которого прогуливались жирные голуби.
– Сорокин тоскует, – проговорил мой приятель.
– А голос хорош! – заметила я.
Саша усмехнулся и сказал:
– Хорош. Убийство путевого обходчика при отягчающих обстоятельствах…
Короче, я написала повесть. Она получилась плохой – как это всегда у меня бывает, когда написанное не имеет к моей шкуре никакого отношения, – но, что называется, свежей. Друзья читали и говорили – не фонтан, старуха, но очень свежо!
В повести действовал следователь Саша (я и тогда поленилась придумать имя), порывистый мальчик с интеллигентной растерянной улыбкой; его друг и сослуживец, загнанный в любовный треугольник; еврейская мама распалась на бабушку и дедушку, папу я ликвидировала. Ну, и далее по маршруту со всеми остановками: любовь, смерть друга, забавные и острые диалоги с уголовниками, инфаркт деда… Словом, свежо.
Повесть была напечатана в популярном московском журнале, предварительно пройдя санобработку у двух редакторов, что не прибавило ей художественных достоинств, наоборот – придало необратимо послетифозный вид.
В те годы нельзя было писать о: наркоманах, венерических заболеваниях, проституции, взятках, о мордобоях в милиции и о чем-то еще, не помню, – что поначалу в повести было, а потом сплыло, ибо мое авторское легкомыслие в ту пору могло соперничать лишь с авторским же апломбом.
Нельзя было почему-то указывать местоположение тюрем, звания, в которых пребывали герои, и много чего еще. Для этого по редакции слонялась специальная «проверяльщица», так называлась эта должность, – тихая старуха проверяльщица, которая стерегла мое появление в редакции, зазывала меня в уголок и говорила заботливым голосом:
– У нас там накладка на шестьдесят четвертой странице… Там взяли фарцовщика с пакетиком анаши в носке на правой ноге. Это не пройдет…
– А на левой пройдет? – спрашивала я нервно.
– Ни на какой не пройдет, – добросовестно подумав, отвечала она и вдруг озарялась тихой вдохновенной улыбкой: – А знаете, не переписать ли нам этот эпизод вообще? Пусть он просто фарцует носками. Это пройдет.
…Словом, как раз тогда, когда повесть следовало отправить в корзину, она появилась на страницах журнала.
* * *
Недели через три мне позвонили.
– Лё-о, Анжелла Фаттахова, – проговорили в трубке домашним, на зевочке, голосом. – Мне запускаться надо, да… Аль-лё?
– Я вас слушаю.
– Я запускаюсь по плану… Роюсь тут в библиотеке, на студии… Ну и никто меня не удовлетворяет… – Она говорила странно мельтешащим говорком, рассеянно – не то сейчас проснулась, не то, сидя в компании, отвлеклась на чью-то реплику. – Лё-у?
– Я вас слушаю, – повторила я, стараясь придать голосу фундаментальную внятность, как бы намагничивая ее внимание, выравнивая его вдоль хода беседы. Так крепкими тычками подправляют внимание пьяного при выяснении его домашнего адреса.
– Ну, ты ведь мои фильмы знаешь?
Я запнулась – и от панибратского «ты», неожиданно подтвердившего образ пьяного, вспоминающего свой адрес, и оттого, что впервые слышала это имя. Впрочем, я никогда не была своим человеком на «Узбекфильме».
– Смотрю, журнальчик на диване валяется, мой ассистент читал… И фотка удачная – что за краля, думаю… Мне ж запускаться надо по плану, понимаешь, а никто не удовлетворяет… Симпатично пишешь… Как-то… свежо… Поговорим, а?
– Анжелка? – задумчиво переспросил знакомый поэт-сценарист. – Ну, как тебе сказать… Она не бездарна, нет… Глупа, конечно, как Али-баба и сорок разбойников, но… знаешь, у нее есть такой прием: камера наезжает… Наезжает, наезжает, и – глаза героя крупным планом… медленно взбухает в слезнике горючая капля, выползает и криво бежит по монгольской скуле. Штука беспроигрышная, в смысле воздействия на рядового зрителя, если умело наехать… Это все равно что на сирот-дебилов просить: только последняя сука не подаст…
Он подозвал официантку и заказал еще пива… Мы сидели на террасе недавно выстроенного кафе «Голубые купола». Это было странное сооружение, натужный плод современных архитектурных веяний с традиционно восточными элементами, например резьбой по ганчу. Венчали это ханское великолепие три и вправду голубых купола, глянцевито блестевших под солнцем.
Мы тянули пиво из кружек, сверху поглядывая на мелкий прямоугольный водоем, вымощенный голубой керамической плиткой – будто в воду опрокинули ведро синьки. По углам водоема вяло плевались четыре фонтанчика.
Мой знакомый поэт писал сценарии мультфильмов по узбекским народным сказкам. Сказками, как известно, Восток исстари кишит, тут только успевай молотить. Он и молотил: даже будучи сильно пьющим человеком, мой знакомый так и не ухитрился ни разу пропиться до штанов. Окружающим это представлялось хоть и небольшим, хоть и бытовым, но все-таки чудом. Однако факт оставался фактом: человек пил на свои. То есть, в известном смысле, жил в соответствующем своему занятию сказочном пространстве…
– К тому же она – фигура номенклатурная, единственная женщина-режиссер-узбечка. Правда, она татарка… Ты, может, видела ее ленту – «Можжевельник цветет в горах»?
– А он разве цветет? – неуверенно спросила я.
– А тебя это гребет? – уверенно спросил он. – Так вот, там часа полтора героиня мудохается по горам с каким-то пасечником. Пчелки, птички, собачка вислоухая, цветочки раскрываются на замедленной съемке и прочий слюнявый бред… И камера наезжает, наезжает… Глаза героини крупным планом, выкатывается невинная подростковая слеза… Что ты думаешь – поощрительный приз на Всесоюзном фестивале! Я ж тебе говорю: на сирот-дебилов только последняя сука не подаст…
Он заказал себе еще пива, и я, опасаясь, что минут через двадцать он станет совсем непригоден к разговору на практические темы, поспешила спросить о главном:
– А сколько платят за сценарий?
– Зависит от категории фильма. Штук шесть…
– Ско-олько?
– Да-да, – кивнул он с выражением скромного удовольствия, – «из всех искусств для нас важнейшим…»
Кстати, тебе известен контекст этой знаменитой ленинской директивы? «Поскольку мы народ по преимуществу неграмотный, из всех искусств…» и далее по тексту…
Так что дерзай. Заработаешь, купишь квартиру, выберешься из своей собачьей конуры, пригласишь меня на новоселье, и – чем черт не шутит, – может, я и трахну тебя от щедрот душевных.
По этой фразе я поняла, что мой знакомый поэт изрядно уже набрался: обычно с женщинами он держался корректно и даже скованно.
Но что касается квартирного вопроса, тут он попал в самую болезненную точку. Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов.
Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой.
Консультацию по вопросам кинематографии можно было считать исчерпанной. Но в тот момент, когда я решила проститься, мой знакомый поэт-сценарист сказал:
– Да, вот еще: будь готова к тому, что Анжелка грабанет половину гонорара.
– В каком смысле? – удивилась я.
– В соавторы воткнется.
Тут я удивилась еще больше. И не то чтобы мне в то время совсем было мало лет, но специальность преподавателя музыки, полученная после окончания консерватории, в те годы еще оберегала мое литературное целомудрие.
– Глупости! – сказала я решительно. – Повесть написана и опубликована, сценарий я сбацаю в соответствии…
– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел… – забормотал мой знакомый, – и от тебя, лиса…
Он поднял на меня глаза, по цвету они удивительно сочетались с пивом в кружке. Ясно было, что он останется сидеть тут до закрытия.
Я преувеличенно дружелюбно попрощалась. Я всегда преувеличенно дружелюбно разговариваю с пьяными, тем самым предупреждая и заранее лишая основания классический вопрос русского поэта-пьяницы.
Впрочем, как и большинство русских поэтов-пьяниц, мой знакомый был евреем.
* * *
Сверяясь с записанным адресом, я поднялась в лифте на пятый этаж огромного узбекфильмовского дома и, побродив по опоясывающей его внешней галерее, отыскала нужную квартиру.
За дверью кричали. Надрывно, нагло и одновременно беспомощно.
– Совсем офуела, совсем?!! – орал молодой, срывающийся голос. – Сказал – поеду, значит – поеду!! Да пошла ты!!.
Я еще раз сверила номер на двери с записанным на бумажке и поняла, что надо уходить. Представить себе в ближайшую неделю какой-то разговор об искусстве за этой дверью я не могла.
В эту самую минуту дверь изнутри рванули и – я успела отскочить в сторону – мимо меня, скалясь, пронесся мальчик лет девятнадцати и побежал по галерее к лестнице, на ходу подпрыгивая и лягая стены, как на тренировках в студии каратэ.
– Маратик, Маратик!! Свола-ачь!! – крикнули из глубины квартиры. Оттуда на галерею выскочила маленькая грациозная женщина в джинсах, из тех, кого называют «огонь-девка», годам этак к пятидесяти. Перегнувшись через перила, она крикнула во двор:
– Маратик, попробуй только взять машину, мало бился, сука?! – И, вглядываясь в спину удаляющегося по двору молодого человека, сказала: – А ты входи, входи… Чего ты такая… скованная?
Так началась эта киноэпопея…
Я и раньше подозревала, что в текущем кинематографе не боги горшки обжигают. Но чтоб настолько – не боги и до такой степени – горшки?..
Раз в два-три дня я появлялась у Анжеллы, «работать над сценарием». То есть я зачитывала ей то, что написала за это время. Из архива киностудии Анжелла приволокла два литературных сценария, по которым я должна была насобачиться в этом деле: «Али-баба и сорок разбойников» и «Хамза» – об основоположнике советской узбекской культуры Хамзе Хаким-заде Ниязи. Собственно, это был один длинный, тягучий эпос, в котором фигурировали симпатичные, худые, честные бедняки; алчные, жирные баи; жестокие разбойники; трепетные, как лань, девушки в паранджах и шальварах; а также ослы, скакуны, вязанки дров и полосатые узбекские халаты.
Песни были разные – впоследствии, в фильмах. В сценариях же тексты песен не указывались, писалось только в скобках: «звучит волнующая мелодия» или «на фоне тревожной музыки». Если не ошибаюсь, главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный узбекский актер. Так что образы Али-бабы и основоположника узбекской советской культуры невольно слились у меня в немолодого одутловатого выпивоху в лаковых туфлях.
Анжелла оказалась человеком в высшей степени прямым, то есть принадлежала к тому именно типу людей, который я ненавижу всеми силами души.
Этот тип людей сопровождает меня вдоль всей моей жизни. Я говорю – вдоль, потому что с детства стараюсь не пересекаться с этими людьми. Подсознательно (а сейчас уже совершенно сознательно) я уходила и ухожу от малейшего соприкосновения с ними.
Я определяю их с полуфразы по интонации, по манере грубо вламываться в область неназываемого – на которую имеет право только настоящая литература и интимнейший шепот возлюбленных, – бодро называя в ней все, и все – невпопад. Поскольку по роду занятий всю жизнь я раскладываю этот словесный пасьянс, кружу вокруг оттенка чувства, подбирая мерцающие чешуйки звуков, сдуваю радужную влагу, струящуюся по сфере мыльного пузыря, выкладываю мозаику из цветных камушков, поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом, то в людях типа Анжеллы я чувствую конкурентов, нахрапистых и бездарных.
Был у нее один тяжелейший порок, за который, по моему выстраданному убеждению, следует удалять особь из общества, как овцу выбраковывают из стада: она говорила то, что думала, причем без малейшей разделительной паузы между двумя этими, столь разными, функциями мозга.
Сказанув, обычно приходила от произнесенного в восторг и изумление.
В этой огромной пятикомнатной квартире они жили втроем. И если мать с сыном связывали на редкость тугие, перекрученные, намертво завязанные узлами колючей проволоки отношения, то отец, на взгляд постороннего, казался настолько случайным человеком в доме, что впервые попавшие сюда люди принимали его за такого же гостя.
Сейчас, как ни силюсь, не могу припомнить – был ли в этих хоромах у него угол. Между тем прекрасно помню «кабинет» Анжеллы, комнату Маратика, всю обклеенную фотообоями: джунгли, обезьяны, застывшие на пальмах с кокосовым орехом в лапах, серебряные водопады, оцепеневшие на стенах. Поверх этого африканского великолепия наклеены были метровые фотографии каких-то знаменитых каратистов, схваченных фотокамерой в мгновение прыжка, с летящей железномускульной ногой, рассекающей воздух, как весло – воду.
А вот комнату Мирзы, Мирзы Адыловича, профессора, талантливого, как говорили, ученого, – не помню, хоть убей.
Правда, в спальне стояла громадная, как палуба катера, супружеская кровать, но боюсь – хоть и не мое это дело, – профессору и там негде было голову приклонить. Впрочем, на то была причина – о, отнюдь не амурного свойства. Скорее наоборот.
Впервые я увидела Мирзу в тот день, когда пришла читать Анжелле начальные страницы сценария. Часам к пяти в дверь позвонили тремя короткими вопрошающими звонками. Анжелла пошла открывать и спустя минуту появилась с высоким, очень худым, неуловимо элегантным человеком лет пятидесяти. Он напоминал какого-то известного индийского киноактера – худощавым смуглым лицом, на котором неуместными и неожиданными казались полные, женственного рисунка губы.
– Это Мирза, – сказала Анжелла, интонационно отсекая от нас двоих присутствие этого человека. – Ну, читай дальше.
– Очень приятно, – сказал Мирза, протягивая мне странно горячую, точно температурную руку. – Творите, значит? Ну, творите, творите…
Я вдруг ощутила запах спиртного, перебитый запахом ароматизированной жвачки, которую он как-то слишком оживленно для своего почтенного возраста жевал.
– Не мешай нам! – крикнула Анжелла. – Пошуруй в холодильнике насчет ужина.
– Сию минутку! – с готовностью, возбужденно-весело отозвался Мирза. – Сей момент!
Словом, он был основательно пьян. И, судя по всему, не слишком удивил этим Анжеллу. Тогда я поняла – кто он.
И правда, очень быстро он приготовил ужин, и, когда позвал нас на лоджию есть – там стоял большой обеденный стол, – оказалось, что все уже накрыто, и умело, даже изысканно – с салфетками, приборами, соусами в невиданных мною номенклатурных баночках.
Когда мы пообедали и вернулись в гостиную, Мирза, надев фартук, стал мыть посуду, хотя, на мой взгляд, ему бы следовало принять горячий душ и идти спать. Но он не ушел спать, а все возился на кухне, гремел кастрюлями. И хотя он находился в собственном доме, меня не покидало ощущение, что этому, почему-то с первой минуты безотчетно симпатичному мне, человеку некуда идти.
Час спустя явился Маратик, отец и его стал кормить. Я слышала доносящиеся из кухни голоса. Рявкающий – Маратика и мягкий, виновато-веселый голос отца.
– Опять?! Опять накиррялся? Как свинья!
И в ответ – невнятное бормотание.
– Дать?! – угрожающе спросил сын. – Дать, я спрашиваю?!. Допросишься!..
Помнится, на этом вот эпизоде я попрощалась и ушла.
* * *
Литературный сценарий катился к финалу легко и местами даже вдохновенно.
Я отсекла все пейзажи, а вместо описаний душевного состояния героев писала в скобках – «на фоне тревожной музыки».
За большую взятку – кажется, рублей в шестьсот – мама воткнула меня в жилищный кооператив, в очередь на двухкомнатную квартиру, и мы ходили «смотреть место», где по плану должен был строиться «мой» дом.
В течение года, пока писался сценарий, снимался и озвучивался фильм, место будущего строительства несколько раз менялось, а мы с мамой и сыном все ходили и ходили «смотреть» разные пустыри с помойками.
– Место удачное, – веско говорила мама, – видишь, остановка близко, школа недалеко и тринадцатым полчаса до Алайского рынка.
Мама с неослабевающим энтузиазмом одобряла все пустыри и помойки, и действительно – у каждого было какое-нибудь свое достоинство. Думаю, в глубине души маме необходимо было оправдать ту большую взятку, утвердить ее доброкачественность в высшем смысле, нарастить на нее некий духовный процент.
Когда дом уже построили и мы даже врезали в дверь моей квартиры новый замок, я вдруг уехала жить в Москву. Квартиру сдали в кооператив, взятка пропала. Мысль об этом просто убивала маму. Она часто вспоминала эту взятку, как старый нэпман – свою колбасную лавку, экспроприированную молодчиками в кожаных тужурках.
Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру, буквально превратило ее в ничто… так орел, поднявшийся в небо, уменьшается до крошечной точки, а потом истаивает совсем. И хотя мама уехала вслед за мной и другие денежные купюры осеняют ее старость, нет-нет да вспоминает она ту упорхнувшую птицу. А учитывая, что, по всей вероятности, я когда-нибудь умру, – Боже мой, Боже, – какой грустной и бесполезной штукой представляются наши взятки, как денежные, так и все иные…
* * *
Сценарий продвигался к концу, и, по моим расчетам, должна была уже возникнуть где-то поблизости фигура Верноподданного Еврея. Я озиралась, вглядывалась в окружающих, тревожно прислушивалась к разговорам – нет, вокруг было спокойно и даже благостно.
Наконец я дописала последнюю сцену – сцену любви, конечно же; в скобках написала: «титры на фоне волнующей мелодии», и уже на следующее утро с выражением читала эту стряпню Анжелле. Иногда по ходу чтения она прерывала меня, как и положено соавтору и режиссеру.
– Видишь, морщины у меня вот здесь, под глазами? – спрашивала она вдруг, всматриваясь в зеркальце со свежим детским любопытством. – Знаешь почему? Я сплю лицом в подушку.
Я смиренно ждала, когда можно будет возобновить чтение.
– Ты никогда не спи лицом в подушку! – с горячим участием, даже как-то строго говорила она.
– Хорошо, – отвечала я покладисто. И продолжала читать. Выслушав последние страницы моего вдохновенного чтения, Анжелла отложила зеркальце и спустила ноги с тахты, что придало ей вид человека, готового к действию.
– Ну вот, – проговорила она удовлетворенно, – теперь можно все это показывать Фаньке.
У меня неприятно подморозило живот, как это бывает в первой стадии отравления.
– Кто такая Фанька? – спросила я без выражения.
– Наша редактор. Баба тертая. Да не бойся, Фанька своя. Она хочет как лучше.
Я тяжело промолчала. Верноподданный Еврей всегда в моей жизни был «свой» и «хотел как лучше». Более того – В. Е., как правило, мне симпатизировал, а иной раз прямо-таки любил намекающей на кровную причастность подмигивающей любовью. Порой у меня с В. Е. происходили даже полуоткровенные объяснения – смотря какой калибр попадался, это зависело от должности, помноженной на степень творческой бесталанности…
Фанька, Фаня Моисеевна, оказалась величественной красавицей лет семидесяти с выпукло-перламутровыми циничными глазами. Такой я всегда представляла себе праматерь нашу Сарру. Говорила она хриплым баритоном и курила ментоловые сигареты.
– Ну что ж, неплохо… – затягиваясь и щелкая указательным пальцем по сигарете, сказала Фаня Моисеевна. – Эта любовная сценка в лифте, монолог этого мудачка-деда… неплохо…
На ее указательном пальце сидел массивный узбекский перстень с крупным рубином, схваченным по кругу золотыми зубчиками. Казалось, она и носит эту тяжесть, чтобы нагруженным пальцем сбивать с сигареты пепел.
– Неплохо, неплохо, – повторила она. – Только вот герой на «Узбекфильме» не должен быть евреем…
Это был абсолютно неожиданный для меня точный удар в тыл. Признаться, я возводила оборонные укрепления совсем по другим рубежам.
После секундного замешательства я спешно привела в движение некоторые лицевые мускулы, сооружая на лице выражение искреннего удивления, необходимое мне те несколько мгновений, в течение которых следовало дать отпор этому умному, как выяснилось, и подлому экземпляру В. Е.
Так комдив отступает с остатками дивизии, сильно потрепанной внезапным ночным нападением врага…
Словом, я подняла брови и несколько мгновений держала их на некоторой изумленной высоте.
– С чего вы взяли, что он еврей? – дружелюбно спросила я наконец.
Любопытно, что мы с ней одинаково произносили это слово, это имя, это табу, – смягчая произнесение, приблизительно так – ивре… – словно это могло каким-то образом укрыть суть понятия, защитить, смягчить и даже слегка его ненавязчиво ассимилировать. (Так, бывает, звонят из больницы, сообщая матери, что ее попавший в автокатастрофу сын в тяжелом состоянии, в то время как сын, мертвее мертвого, уже минут десять как отправлен на каталке в морг.) – С чего вы взяли, что он ивре?.. – спросила я, глядя в ее перламутровые глаза, пытаясь взглядом зацепить на дне этих раковин некоего вязкого студенистого моллюска.
(О, скользкая душа Саддукея, древние темные счеты с иными из моего народа! В такие считаные мгновения в моей жизни я проникала в один из побочных смыслов понятия «гой» – слова, которому я до сих пор внутренне сопротивляюсь, хотя знаю уже, что ничего оскорбительного для других народов не заложено в нем изначально.
Анжелла сидела на краю тахты, на обочине моего сухого горячего взгляда, имешала. Уведите чужого, уберите чужого – да не увидит он, как я убью своего – сам! Как я воткну ему в горло нож – и он знает за что! – собственной рукой. Закройте глаза чужому…)
– Еврей! – воскликнула Анжелла радостно, как ребенок, угадавший разгадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала: «яврей». – Ну конечно, яврей, то-то я чувствую – чего-то такое…
– Помилуйте, это прет из каждой фразы. – Фаня Моисеевна снисходительно и по-родственному улыбнулась мне. – Этот дедушка, эта бабушка… «Поку-ушяй, поку-ушяй»… – Последние слова она произнесла с типично национальной аффектацией, очень убедительно. Так, вероятно, говорила с ней в детстве ее бабушка, где-нибудь в местечке под Бобруйском. Моя бабушка говорила со мной точно с такой же интонацией. И это меня особенно взбесило, С памятью своей бабушки она вольна была вытворять все, что ей заблагорассудится…
– А вот мою бабушку оставьте в покое, – сказала я, спуская брови с вершин изумления.
– Напрасно вы обиделись! – приветливо воскликнула Фаня Моисеевна. – Мы почти ничего не тронем в сценарии. Надо только верно расставить национальные акценты.
– Фанька, молчи! – вскрикнула Анжелла в странном радостном возбуждении. – Я вижу теперь – что она хотела устроить из моего фильма! Она синагогу хотела устроить! Все явреи!!
Я молча завязала тесемочки на папке, поднялась из кресла и направилась к дверям.
Анжелла нагнала меня в прихожей и повисла на мне, хохоча. При этом изловчилась влепить мне в шею мокрый и крепкий поцелуй, превративший мое благородное возмущение в пошлый фарс.
Много раз за все время создания… (нет, избегу, пожалуй, столь высокого слова) сварганивания фильма я вставала и уходила с твердым намерением оборвать этот фарс, и каждый раз до анекдота повторялась сцена бурного и страстного – с поцелуями взасос (моя бедная шея! выше Анжелла не доставала, была миниатюрна, как персидская княжна) – водворения меня в кинематографическое русло.