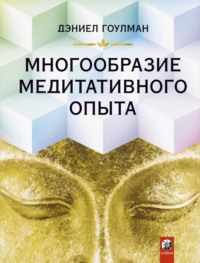Czytaj książkę: «Многообразие медитативного опыта»
Daniel Goleman
The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience
© 1996 by Daniel Goleman
© ООО Книжное издательство «София», 2025
Дэниел Гоулман занимался интеллектуальными аспектами объединения медитативного опыта. Проницательный, мощный ум и преданность буддийской традиции идеальным образом подготовили его для составления обзора духовных путей и связанных с ними состояний сознания.
Рам Дасс
Форма слов и путь, которым они приходят, индивидуальные и личные, но Смысл всеобщий. Воспользуйтесь одним путем, если это поможет вам; воспользуйтесь другим, если это откроет Врата; но пользуйтесь хоть каким-то путем, пока не обнаружите Тот Единственный, который свойствен именно вам…
Ф. Меррелл-Вольф

Об авторе
Дэниел Гоулман, известный в Америке автор книг и статей о буддийской медитации, принадлежит к тому поколению «искателей новых измерений», становление которого пришлось на конец 60-х годов и которое сегодня определяет облик духовного движения современной Америки («New Age Movement», «Движения Новой Эпохи»).
Стремление практически, на своем опыте познать наследие духовных традиций, разобраться во всем этом с позиции современного человека и найти сущностное единство различных духовно-мистических путей всех стран, эпох и народов – единство, приложимое к миру современной постиндустриальной цивилизации с ее культурой, – такова характерная черта и пафос этого поколения.
Одна из попыток такого синтеза – предлагаемая в русском переводе книга Дэниела Гоулмана «Многообразие медитативного опыта», название которой явно намекает на классический труд отца американской психологии Вильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта».
Кроме предлагаемой книги Дэниела Гоулмана, в основу которой были положены статьи, опубликованные им в «Журнале трансперсональной психологии» и в сборнике «За пределами эго», в 1988 году была опубликована новая книга Гоулмана «Медитативный ум», развивающая тему единства многообразных форм медитативного опыта.
Предисловие Рам Дасса
И вдруг на меня снизошло и простерлось вокруг такое чувство покоя и мира, такое всеведение, выше любой человеческой мудрости, и я понял… что Бог – мой брат, и что его душа – мне родная, и что центр Вселенной – любовь.
Уолт Уитмен. «Листья травы»
Я в тверди был, где свет их восприят
Всего полней; но вел бы речь напрасно
О виденном вернувшийся назад;
Затем, что, близясь к чаемому страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не властна,
Однако то, что о святой стране
Я мог скопить, в душе оберегая,
Предметом песни воспослужит мне.
Данте. «Божественная комедия»
Большинству из нас не приходилось испытывать столь живые и неотразимые переживания, как у Данте и Уитмена, но тем не менее и у вас, и у меня бывали моменты, когда наступает дезориентация во времени и пространстве, моменты, когда обнаруживаешь себя перед входом в иное состояние бытия, моменты, когда личная точка зрения оказывается тривиальной и её вытесняет интуитивное чувство великой гармонии со Вселенной. Обычно такие моменты наступают, когда мы с головой уходим в захватывающий фильм, книгу, в произведение изобразительного искусства или музыку или во время церковной службы. Возможно это случалось, когда вы предавались мечтам у ручья, в горах или на берегу моря; может быть, такое бывало, когда вы находились в состоянии подъема или испытали душевное потрясение; такое могло случиться в результате приема наркотиков или когда вы влюблены; при созерцании звездного неба или сразу после родов. Самым необычным в такие моменты является выход из-под контроля личности, и тем не менее все кажется гармоничным и правильным.
В такие моменты мы чувствуем, хотя обычно и не можем четко сформулировать свои мысли, более глубокий смысл своей жизни. Непременным условием таких переживаний является то, что они возникают без участия интеллекта. Однако обычно сразу после них мы снова возвращаемся к своему аналитически мыслящему уму и пытаемся дать название тому, что произошло. Здесь-то и начинаются затруднения. Споры о названиях приводили людей к неописуемым недоразумениям, вплоть до религиозных войн. Но если уж мы придумали названия для наших переживаний, то эти слова и понятия, благодаря их связи с моментами реального проникновения, приобретают свою собственную силу, и вдобавок к этому они придают нашему эго уверенность в том, что мы знаем нечто, позволяющее нам контролировать ситуацию. В одной системе понятий такие переживания трактуются как что-то сугубо из области психологии: «Я сошел с ума», «галлюцинации» или «расщепление личности», «выход на поверхность бессознательного», «истерия», «иллюзия»… Другие понятия, фокусируясь на содержании переживания, подразумевают мистическое или духовное событие: «Бог снизошел ко мне», «Я вошел в дух», «Я чувствовал присутствие Христа», «Дух руководил мною», «Я постиг Дао» (или «Дхарму», или «Божественный Закон»).
В 1961 году я оказался вовлеченным в такую полемику, связанную с названиями. В ту пору я был профессором социологии в Гарварде и всецело разделял точку зрения, согласно которой химические препараты являются психотомиметиками (вызывающими психоз) и, следовательно, принимая их, человек становится сумасшедшим. И если я не сошел с ума от приема химических веществ, то, думаю, это могло бы случиться из-за образовавшейся в моей голове путаницы различных понятий. Карл Юнг приписывает умопомешательство Ричарда Вильгельма, общепризнанного переводчика «Ицзина», его попытке объединить в своей душе две в корне различные культуры. При использовании одной системы ярлыков и понятий мы являемся исследователями мистических пространств, которые переживали Моисей, Магомет, Христос и Будда. Согласно другой, мы являемся полными дураками, приводящими самих себя в состояние безумия. Обоснованность использования духовных метафор ощущалась интуитивно. Подтверждением этому служили многочисленные параллели между переживаниями, вызванными психоделическими веществами, и мистической литературой. Лично я разрешил для себя это почти невыносимое противоречие, перейдя в область духовной интерпретации. В течение пяти лет мы и пытались найти такие ярлыки, которые оптимизировали бы смысл этих переживаний для человечества. Нам казалось, что исход этих поисков мог бы в значительной степени повлиять на ориентацию человеческого сознания. Ведь при употреблении одной группы понятий каждое умственное состояние, прерывающее нормальное, рациональное, бодрствующее сознание, рассматривалось как отклонение от нормы, как потеря самоконтроля. Другая группа понятий трактовала пробужденные состояния сознания как редкие и драгоценные для человечества возможности вступить в более величественные сферы своего собственного потенциального осознания. В таком случае эти переживания следовало скорее культивировать, чем подавлять, даже если они создавали угрозу существованию социальных институтов. При такой постановке вопроса, мы следовали по стопам Вильяма Джеймса, который в 1902 году писал о пробужденных состояниях сознания в своей книге «Многообразие религиозного опыта»:
«Никакая оценка Вселенной в ее полноте не может быть окончательной, если она оставляет в стороне другие формы сознания.
Вопрос в том, как их оценить, – ведь они столь отличны от нашего обычного сознания. Тем не менее они могут определить позиции, хотя и не могут дать формул, и могут открыть некую область, хотя и не могут предоставить ее карту. Во всяком случае, они запрещают нам преждевременно ставить точки над «i» в нашей оценке реальности».
Мы в достаточной степени оценили изощренность и утонченность восточных систем понятий для описания пробужденных состояний сознания. В течение примерно 4000 лет восточные религии составляли карты и схемы территорий внутреннего поиска. Некоторые из них мы еще как-то смогли понять, тогда как другие базировались на культурных традициях, слишком чуждых для нас, чтобы их можно было использовать. В 1967 году я отправился в Индию, потому что меня привлекали подобные описания и я хотел найти путь или, быть может, учителя, с помощью которого смог бы использовать эти карты более эффективно. Я надеялся тогда, что смогу упрочить эти пробужденные состояния сознания и соединить их со своей нормальной повседневной жизнью. Никто из нас не был в состоянии добиться этого с помощью одних лишь психоделических веществ.
В Индии я встретил Ним Кароли Бабу, что превзошло все мои ожидания. Он жил в состоянии «сахаджа-самадхи», и пробужденное состояние сознания было неотъемлемой частью его повседневной жизни. В его присутствии человек ощущал бесконечность пространства и времени, так же как и бесконечную любовь и сострадание. Поскольку его осознание не было ограничено никаким местом, то ему некуда было идти, так как он уже был и здесь, и везде, где только возможно.
Видеть кого-то и быть кем-то – две разные вещи, и я намного охотнее был бы кем-то, чем видел бы кого-то. Вопрос заключался в том, как осуществить ту трансформацию, которая, как я полагал, сделает меня тем, кем (или чем) был Махарадж-джи. Все, что исходило из уст Махарадж-джи, я воспринимал как специальные инструкции, хотя и был не в состоянии следовать им всем. Но потом это усложнилось, потому что он давал противоречивые указания. Теперь я понял, что вступил в противоречие с учителем, подобно тому как дзэнский коан эффективен лишь до тех пор, пока человек скован рациональностью. Со своим рациональным, аналитическим, уравновешенным умом из того места, где я находился, я не мог попасть туда, куда, как я думал, я шел. Что было делать?
В присутствии Махарадж-джи я чувствовал, что мое сердце раскрывается и меня охватывает прилив всепоглощающей любви, которую я раньше никогда не испытывал. Может быть, это и был путь – раствориться в любви. Но мой ум не успокаивался. Ученый-социолог, этот скептик, не мог исчезнуть без борьбы. Структура моего эго яростно сопротивлялась, используя все средства, в том числе чувственные желания и интеллект, комплекс вины и чувство ответственности. Например, во всех храмах, где останавливался Махарадж-джи, были статуи Ханумана, обезьяноподобного бога, который приобрел всю свою силу благодаря полной преданности божественному. Хануман глубоко чтим и любим приверженцами Махарадж-джи. Я садился перед восьмифутовой каменной статуей обезьяны, окрашенной красной краской, пел для нее и медитировал на нее. Время от времени внутри себя я слышал голос: «Да-а, сидишь тут, поклоняясь каменному идолу обезьяны. Дальше уж действительно идти некуда». Это было то самое внутреннее сражение, о котором в иносказательной форме повествует Бхагавад-Гита.
Мои друзья-буддисты говорили, что проблема состоит в том, как дисциплинировать свой ум; а Махарадж-джи, когда я его спрашивал, утверждал, что, когда я приведу свой ум к однонаправленности, я познаю Бога. Возможно это было именно то, что мне нужно было делать. Поэтому я ревностно занялся медитацией. Путь преданности допускал слишком большую игру ума, а я должен был быть жесток по отношению к себе. В 1971 году я начал серьезную медитационную практику в Бодхгайе, где Будда достиг просветления. На десятидневных курсах, в составе группы из 100 человек, прибывших с Запада, я был плавно введен в методы буддийской медитации Тхеравады – практики, исключительной по своей простоте.
В это время я встретил Анагарику Муниндру, учителя Тхеравады, который при своем открытом характере, казалось, олицетворял то внимательное светлое спокойствие, на достижение которого и был направлен метод. Переживание нового глубокого спокойствия сразу же оживило меня. Я попросил учить меня дальше, и он ввел меня в «Висуддхимаггу», часть традиции буддистских наставников. В конечном счете я, психолог с Запада, поистине смирил свой интеллект. Ибо я увидел, что же в действительности такое «логос души».
В этой книге содержится система тщательно сформулированных категорий умственных состояний плюс философия и методы избавления сознания от тирании собственного ума. В ней содержится та система понятий, которую я искал с 1961 года. Она на удивление свободна от оценивающих суждений и поэтому годится для сравнения принципиально различных метафизических систем, относящихся к пробужденным состояниям сознания. Я проглотил эту книгу залпом.
Хотя мой ум и был восхищен той системой, которая лежит в основе практик, я обнаружил, что становлюсь сухим и противлюсь самой медитации. Было ли это ошибкой, которую я допустил, практикуя метод, или это было свидетельством того, что эта форма духовной практики не была моим путем? Я благополучно покинул Бодхгайю, чтобы выполнить обещание присутствовать на празднике Бхакти и найти Махарадж-джи, который был моим гуру. Вы можете спросить: если Махарадж-джи, индуист, является моим гуру, то почему я должен был ехать изучать буддийскую медитацию в Бодхгайю, вместо того чтобы оставаться вместе с ним? Дело в том, что он временами не позволял мне оставаться вместе с ним и всегда говорил: «Всё есть одно». Он подробно рассказывал о Христе и Будде, а потом отсылал меня прочь. Поэтому я не видел противоречия в следовании другим традициям, когда находился не с Махарадж-джи. Потому что, по методу моего гуру, все другие пути способствуют процессу очищения, которое сможет позволить мне слиться с моим любимым Махарадж-джи. Слияние с ним было бы концом путешествия.
Покидая Бодхгайю, я договорился с Муниндрой провести с ним лето в Косани, маленькой гималайской деревне. Но в последний момент он не смог приехать, и поэтому в течение этого лета Дэн Гоулман, я и еще человек двадцать практиковали набор из буддистских, индуистских и христианских методов. В течение этого времени, беседуя с Дэном Гоулманом, я обнаружил, что у нас много общего. Мы оба получили психологическое образование, оба были связаны с Гарвардом, у обоих был один и тот же гуру, мы оба высоко ценили теорию буддизма и его медитационные техники. Так же как и я, он тоже боролся, пытаясь объединить две несопоставимые части своей жизни.
Но между Дэном и мной были и важные различия. Одним из них было то, что он хотел бы все, полученное в результате этой практики, привезти домой, в научные круги. Я, с другой стороны, уже давным-давно оставил академическую среду. А Дэна все еще занимали интеллектуальные проблемы интеграции. Научный склад его проницательного ума, его преданность Махарадж-джи и приверженность буддийской традиции идеальным образом подготовили его для составления обзора духовных путей и связанных с ними состояний сознания.
Когда я стремлюсь понять, что произошло со мной, куда я иду и что из меня получится, тогда эта книга доставляет мне наслаждение. С другой стороны, когда я медитирую над гуру в своем сердце, то такие книги, как эта, столь же неуместны, как попытка заставить себя полюбить, размышляя над этим.
Быть может, некоторым читателям не слишком понравится то, что Дэн слишком быстро расправился с проблемами, присущими специфическому пути медитации. Так, с моей точки зрения, он мало что сказал о той милости, которая исходит от гуру. Но это и не входило в его намерения, так как он дает общий взгляд на единство путей, не уделяя внимания деталям. Те же, кто считают свой путь единственным, будут особенно расстроены. Здесь я имею в виду не только такие очевидные примеры, как христианский фундаментализм или Общество Сознания Кришны, но и тот утонченный снобизм, который пропитывает почти все традиции. Наверное, каждый из нас, не будучи полностью уверенным в себе, должен чувствовать, что его путь лучше. Но более зрелой является та точка зрения, что «мой путь» лучший только для меня, а для других людей более удобны другие пути. И эта книга служит примером такого подхода.
Если выйти за пределы эмоциональных привязанностей к нашим собственным методам, то появится возможность оценки данной работы. Она представляет собой закладывание систематических основ для понимания смысла универсальности духовного путешествия, подобно тем философским основам, которые изложил Олдос Хаксли в своей книге «Вечная философия» («Perennial Philosophy»). И наверняка, когда мы сможем осознать общие черты, мы сможем постичь и различия.
Барр, Массачусетс
Darmowy fragment się skończył.