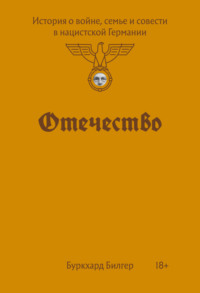Czytaj książkę: «Отечество. История о войне, семье и совести в нацистской Германии»
Посвящается моей матери
Copyright © Burkhard Bilger, 2023
© М. Шер, перевод с английского, 2025
© ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Individuum ®
Примечания от автора
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой документальную повесть, своего рода исторический репортаж. В ее основе – первоисточники и рассказы непосредственных участников событий, записанные в беседах с разными людьми и найденные в архивах Франции и Германии. Места, где мне пришлось «маневрировать» между противоречившими друг другу свидетельствами, я постарался в тексте выделить особым образом. Лакуны, в которых мне недоставало деталей, я заполнил за счет современных источников. В некоторых случаях пришлось полностью довериться памяти людей – насколько ненадежной, настолько и цепкой.
Как и многие мужчины его поколения, мой дед не любил рассказывать о себе. Он не оставил ни дневника с душевными метаниями, ни завещания, ни воспоминаний о войне, отшлифованных и отполированных до состояния амулетов. Он хотел забыть, он не хотел помнить. Тем не менее, следы своего существования он оставил повсюду – в устных рассказах, воспоминаниях, письмах из тюрьмы, в судебных протоколах, школьных отчетах, полицейских рапортах. В книге я попытался проложить тропинку до этих источников: по этой тропинке моя мама бредет за своим отцом, он – за своим, а я – за всеми ними. Я постарался довести эту тропинку до самых истоков.

1
Подозреваемый


Человек, сидевший в комнате для допросов, по всем признакам походил на опасного фанатика: строгая осанка, костлявые плечи, сжатые губы1. Он носил очки с латунными дужками и круглой черепаховой оправой, голова была выбрита сзади и по бокам. Только на макушке оставалась копна каштановых волос, похожих на накладной парик. Пока он позировал для фото в профиль и анфас, в глаза бросалась странная асимметрия на его лице. Левый глаз выражал твердость и целеустремленность, но одновременно страх и мýку. Правый был стеклянным и безжизненным.
Перед ним взад-вперед вышагивал следователь – француз Отто Баумгартнер. «В октябре 1940 года вы переехали в Эльзас и задались целью обратить в национал-социализм жителей Бартенайма»2, – начал он зачитывать с машинописного листа. «Вы получили должность ортсгруппенляйтера3, рассчитывая стать полновластным хозяином города… Вы выполняли свои обязанности с беспримерным рвением и деспотическим задором! Во всем Мюлузском округе вас воспринимали как самого страшного и одиозного начальника!»
После каждого обвинительного пункта Баумгартнер делал паузу, чтобы дать арестанту ответить, другой следователь вел стенограмму допроса. Прошел уже почти год со дня капитуляции Германии, и эти люди успели наслушаться обличений и доносов. Регион бурлил, особенно в сельской глубинке: работали военные суды и гражданские ополченцы, по деревням бродили толпы линчевателей, чинивших стихийную расправу. Четыре года немецкой оккупации усугубили и без того мучительный внутренний раскол во Франции, натравили друг на друга соседей, столкнули лбами христиан и евреев. Пришло время сводить счеты. За пять послевоенных лет более девяти тысяч человек будут казнены за военные преступления и коллаборационизм, и это если не считать тех, на кого донесли и кого избили, а еще женщин, которых остригли, обрили и прогнали через города при стечении народа за то, что спали с немецкими солдатами. Французы называли те события «беспощадным очищением» – épuration sauvage.
Факты в деле сомнению не подлежали. Получены они были, казалось бы, от безупречного источника – капитана Луи Обрехта, заместителя начальника французской военной администрации и председателя местной фильтрационной комиссии. Обрехт – ветеран французской армии – какое-то время находился в плену. Когда в 1940 году немцы вторглись в Эльзас, он работал директором школы в городке Бартенхайм, где задержанный чуть позже станет ортсгруппенляйтером, то есть руководителем местной партийной организации. Четыре года, утверждал Обрехт, задержанный наводил ужас на Бартенхайм. «Но именно в последний год своего „правления“ он стал запугивать людей и угрожать им».
Обрехт обвинял бывшего функционера в самых разных преступлениях – от саботажа до использования французских детей для шпионажа. Но следователи сфокусировали внимание на одном случае – убийстве местного крестьянина Жоржа Баумана4. Утром 4 октября 1944 года – это была среда – начальник немецкой военной полиции Антон Акер приказал Бауману явиться на работу и приступить к сколачиванию деревянных поддонов для вермахта. Бауман отказался. Война к тому моменту уже складывалась не в пользу Германии; союзные армии были на подходе. Крестьянин сказал, что не собирается работать на «этих немецких свиней». Когда Акер попытался его арестовать, завязалась потасовка, и Бауману с родней удалось разоружить офицера.
Победа оказалась недолгой. Через час Акер вернулся с пятью полицейскими. Они арестовали Баумана, а чуть позже в тот же день поймали его жену и дочь; сыну же удалось скрыться в полях. Троих задержанных отвезли в полицейский участок, где всех сильно избили. К вечеру Бауман был полуживой. «Я обнаружил его на полу участка – без сознания; его волосы, щеки, лоб были в крови», – позже рассказал следователям местный врач. «У него был рассечен череп, несомненно от ударов прикладом, было пулевое ранение в живот с разрывом кишок и, вероятно, артерии». Вечером того же дня Бауман умер в больнице. К моменту смерти синяки от побоев начали появляться по всему телу.
2
Объект исследования

Семейная история – опасная штука, подобная тропинке в темном лесу. В этом лесу по ночам кричат, а тебе приходится бегать среди деревьев в тонких тапках и старом фланелевом халате, высвечивая себе путь карманным фонариком. У тебя перехватывает дыхание, ты бежишь назад, потом вдруг замираешь в оцепенении. Кто-то как будто кашлянул или сдавленно всхлипнул за спиной или померещилось? Там, кажется, что-то движется – какая-то сгорбленная фигура, она уходит в тень, но ты не в состоянии заставить себя за ней пойти. А когда утром идешь назад и видишь утоптанную землю, то теряешься в путанице следов, большинство из которых – твои собственные.
Я американец, родился в Оклахоме, меня учили не бояться истории и верить, что Бог на моей стороне или по крайней мере готов простить мне мои прегрешения. Но во мне течет немецкая кровь, так что я знаю, что прощение не всегда дается легко. В каждой стране свое темное прошлое, свой послужной список ошибок и преступлений. Так всегда говорила мне мама. Поскреби сегодняшних спокойных датчан, и ты увидишь, что в их венах по-прежнему течет кровь викингов. Швейцарцы, прежде чем начать считать приходные ордера в банках, слыли самыми опасными наемниками в Европе. А веселые голландцы с лицами, раскрасневшимися от выпитого пива, какими мы видим их на картинах, обязаны своим благосостоянием в основном работорговле. Еще мама говорила так: каждый из нас несет в себе семена жестокости и милосердия. Что именно возьмет верх, зависит в равной степени и от обстоятельств, и от характера человека.
Во многом ее мнение было продиктовано защитной реакцией. Мама родилась в 1935 году в предгорьях Шварцвальда на юго-западе Германии. Благодаря юному возрасту она не то что не служила Третьему рейху, но даже не попала в гитлеровский Союз немецких девушек, хотя ей очень нравились их нарядные белые блузки и черные галстуки. Впрочем, юный возраст не помешал ей увидеть и осознать ужасы войны. Она считала, что преступной при определенных обстоятельствах может стать любая страна и любой народ – не только потому, что внимательно изучала историю, но и потому что видела все эти ужасы своими глазами. Если ее соседи, да и собственный отец, стали нацистами, разве не могли ими стать и другие?
В детстве таких вопросов у меня вообще не возникало. Как и большинство немцев ее поколения, мама редко рассказывала о войне, а если и рассказывала, то так, как рассказывают какую-нибудь страшную сказку – в простых образах, черно-белых, с вкраплениями красного. Например, о чудесном спасении из логова ведьмы или об охотнике, пришедшем за ее сердцем. Когда она с мужем – моим отцом – в 1962 году переехала в Америку, все эти воспоминания будто оказались заброшены высоко на антресоли, как какие-то старопечатные книги в кожаном переплете с мрачным готическим шрифтом. Вроде и на виду, но лезть туда уже не хотелось.
Страна, из которой они уехали, осталась где-то далеко – сломленная, угрюмая, опустошенная, будто готовая принять следующий удар. Железные дороги восстановили, руины расчистили – всего вывезли около пяти миллиардов кубометров обломков. Люди же по-прежнему казались контуженными, полусонными. Там, где раньше сияла зловещая современность – автобаны, фольксвагены, двенадцатицилиндровые моторы, вермахт, – снова явилась миру «историческая родина». Больше половины молодых мужчин полегли на поле боя, города вбомбили в прошлый век. В католических деревнях юга Германии на улицах пахло угольной гарью и кислым молоком.
Моим родителям повезло больше других. Мама была учительницей начальных классов, как и ее родители. Вскоре после того, как в 1958 году она вышла замуж за моего отца, ей предложили работу в городке Инцлинген недалеко от ее родного Вайль-ам-Райна. Расположенный в глухом углу Баден-Вюртемберга, вплотную к швейцарской границе и с трех сторон окруженный нейтральной территорией, Инцлинген пережил войну будто под защитой какого-то силового поля. Местный замок, окруженный рвом с водой, – Wasserschloss – не пострадал. Когда ночью срабатывали сирены воздушной тревоги, люди по обе стороны границы гасили свет и опускали черные шторы. Из-за этого британским бомбардировщикам было сложно точно определить, где начинается нейтральная Швейцария, и они от греха подальше пролетали мимо. И все равно, заслышав гул самолетов, мама начинала нервничать, хотя война закончилась больше десятилетия назад.
К новой должности ей полагалась еще и трехкомнатная квартира в мансарде здания школы – редкая по тем временам роскошь. Другие молодые пары вынуждены были жить с родителями или делить жилье с беженцами со всей Европы. Они прибывали из Восточной Пруссии, Силезии, Восточной Померании и других бывших немецких территорий, из Судет, когда-то аннексированных нацистами, а теперь возвращенных Чехословакии, а также из Венгрии, Румынии, Югославии и других стран, которые просто не хотели больше видеть у себя немцев. Более тринадцати миллионов этнических немцев были депортированы из разных стран и расселены по всей Западной Германии. Беженцы и их новые хозяева говорили на разных диалектах немецкого, ели разную еду и по-разному молились Богу. Теперь они вынуждены были делить друг с другом печь, ванну и диван. В небольших городах, подобных Инцлингену, даже выходцу из соседней долины иногда требовались годы, чтобы стать своим. А еще здесь как будто под досками пола тек темный поток осознания – вытесненного, отрицаемого или внезапно и мучительно принятого – осознания того, что они сами всё это на себя навлекли.
Они видели фотографии из лагерей смерти Бухенвальд и Берген-Бельзен. Они слышали истории о принудительных абортах и экспериментах на людях. Они сознавали, что допустили весь этот ужас – впустили домой, а потом наблюдали, как ужас переходил из одного дома в другой, доносил на одного соседа, арестовывал другого, загонял обреченных на смерть матерей с детьми в вагоны для скота. И тем не менее они старались гнать от себя эти мысли. «Мы в Германии должны сообща разобраться в духовных вопросах», – говорил в 1946 году философ Карл Ясперс своим студентам в Гейдельбергском университете на лекции, которую позже напечатают в его книге «Вопрос о виновности»5. Ясперс считал, что эта задача не только для ума, но и для сердца, опасаясь при этом, что немцы настолько сломлены, что не смогут за нее взяться. «Люди не хотят слышать о виновности, о прошлом, их не заботит мировая история. Они хотят просто перестать страдать, хотят выкарабкаться из нищеты, хотят жить, а не размышлять»6.
Избавиться от привычек войны было нелегко. Сдержанная речь, взаимная подозрительность и всепроникающий страх, что горсть пайковых талонов да сто грамм говяжьего жира – это и есть всё, что поможет твоей семье прожить еще неделю. В небольших магазинах, куда моя мама ходила за покупками каждый день после обеда, продукты по-прежнему взвешивали, заворачивали в бумагу и выдавали из-за прилавка, а мясо отрезали от туши по усмотрению мясника. Все расходы мама записывала в табачного цвета Haushaltsbuch7: Eier: 1 pfennig, Speck und Leberwurst: 2.90 mark, Brötchen: 50 pfennig8. Всю жизнь тогда измеряли в миллиграммах.
Я часто пытался представить себе все это, но так получалось, что она рассказывала о той жизни, когда мы сидели в комнате с ковровым покрытием и кондиционером. То время казалось гораздо дальше, чем лишь поколение назад: мансардная квартира без ванны и горячей воды, спальни без отопления во время долгой немецкой зимы. Мама вставала в 5:30 утра и на цыпочках спускалась в подвал в темноте, чтобы не разбудить моего старшего брата, спавшего в кроватке. Она наливала воду в большую черную кастрюлю и ставила ее на огонь; топить нужно было яйцевидными кусками угля – их называли Schwarze Eier9; когда вода закипала, мама сваливала в кастрюлю кучу пеленок. Выстирав их добела и развесив сушиться, она возвращалась наверх, чтобы покормить брата, а потом передавала его молодой вдове, чей муж погиб на войне; та сидела с мальчиком днем, пока мама вела уроки этажом ниже: в ее классе было пятьдесят первоклассников, из них несколько, кажется, постоянно стояли к ней в очереди, чтобы вырвать очередной шатающийся зуб. По субботам она кипятила еще больше воды, чтобы все члены семьи могли искупаться.
Глядя на нее, сложно было себе представить, что она такая двужильная. Выросшая на сале, картошке, обезжиренном молоке и сыре, она была маленького роста, с бледным, вечно настороженным лицом, круглым, как луна. Она так плохо видела, что носила очки толщиной с бутылочное стекло, а кожа ее местами почти просвечивала. Руки у нее были такие теплые – с венами, проходившими очень близко к поверхности, – что из-за их тепла хлебное тесто иногда начинало подниматься, пока она его еще месила. Деревенские дети говорили про нее – еще девочку, – что ее ярко-рыжие волосы – ведьминские. Но она скорее походила на застенчивое домашнее привидение, которое выходило из себя, только когда его загоняли в угол. Она рано научилась различать ситуации, когда надо драться, а когда – прятаться.
Они с моим отцом учились в одной школе и в одном выпускном классе из двадцати восьми человек. Оба были отличниками – лучшими в своей Oberschule10, хотя тогда лишь немногие получали аттестат о полном среднем образовании. Ей доверили выступить с речью на выпускном, но в университет после школы поступил только он. Если бы мир был для нее открыт, она хотела бы изучать право. Стремление к справедливости сидело в ней глубже, чем что-то еще, и порой принимало довольно жесткие формы. Увы, высшее образование дочери было ее родителям не по карману. Она видела других девушек в городе, которые сами оплачивали учебу: плохо одетые, измученные, слишком измотанные работой, чтобы найти мужа, слишком бедные, чтобы купить пару приличных туфель.
Ей больше так жить не хотелось, так что, пока отец писал кандидатскую по физике в Швейцарии, она дергала зубы своим первоклашкам и родила за три года троих детей. Первенцем стал мой брат Мартин: он родился в 1959‐м. Потом появились на свет сестры Ева и Моника. Вечером, когда отец поездом из Базеля возвращался домой, пряча под плащом бутылку молока и жестяную банку кофе, в голове его еще крутились формулы из лаборатории. Пока мама готовила ужин, он ходил по кухне взад-вперед, размахивая руками и рассказывая о сигналах и шумах, гауссовых пучках и гравитационных волнах. Она молча слушала у плиты, изредка оборачиваясь, чтобы задать вопрос или указать на логическую ошибку, чем вызывала у отца очередной приступ анализа и махания руками. Ее познания в физике были в основном интуитивные, подкрепленные их ночными разговорами. Но он был рад ее подсказкам, а она жаждала любого разговора.
Это был подарок судьбы, а не жизнь, и она это прекрасно понимала. После воя сирен и оглушающего грохота снарядов даже кипятить пеленки казалось благословением. Но тьма все равно не давала покоя. На свадебных фотографиях родителей, сделанных в яблоневом саду в мамином городе, она прильнула к отцу. Он своими большими ушами и горящими глубоко посаженными глазами похож на молодого Кафку и смотрит в камеру так, будто не до конца ей доверяет. Ее волосы растрепаны ветром, а в глазах можно разглядеть едва уловимое удивление, словно она только сейчас поняла, как ей повезло. При этом платье на ней – из черного бархата, а его костюм – чуть ли не траурный. Чувствуется, что прошлое еще разлито в воздухе, что оно еще слишком близко, чтобы можно было спокойно выдохнуть.
Прошло два года после смерти ее матери от рака желудка и одиннадцать – с момента возвращения ее отца из Франции. Она знала, что он там отсидел больше двух лет, сначала в лагерях для военнопленных на востоке Франции после ареста в Эльзасе, затем в одиночной камере Страсбургской тюрьмы после повторного ареста по подозрению в военных преступлениях. Она помнила, как он надевал свою форму – она тогда была еще ребенком, – коричневую, с орлом на фуражке и черной свастикой на рукаве. Но она никогда не спрашивала его, что он делал во время войны. Поиски ответа на этот вопрос, который она не задавала, пока дед был в соседней комнате, начались много лет спустя, после того как мама с отцом пересекли океан и, казалось, оставили прошлое позади.
Они собирались пожить в Америке год-два. Постдок в США стал напоминать обряд посвящения для физиков из лаборатории моего отца и казался небольшим приключением перед тем, как жизнь перейдет в серьезное русло. Однажды вечером, когда родители еще жили в Германии, они решили выбросить кое-какие старые вещи – свалили их на тележку и потащили на деревенскую свалку. Внезапно отец остановился и показал на небо. Что там такое светится? Для звезды свет слишком яркий, для самолета слишком небольшая скорость. Яркая точка, похожая на болотный блуждающий огонек, двигалась вдоль горизонта. «Думаю, это русский спутник», – сказал он.
За последние годы Советы запустили в космос три спутника, вслед за ними на орбиту вышла и Америка. Американская ракетная программа давно была связана с Германией. Вернер фон Браун и его сотрудники, разработавшие ракету «Фау-2», в 1945‐м сдались союзникам и продолжили научную работу в американских лабораториях. Фон Браун теперь был директором Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла, а немецких физиков хотели заполучить себе едва ли не в каждом техническом отделе и федеральной лаборатории в Америке. Все дороги на американский континент были перед ними открыты; вопрос был только в том, куда ехать.
Мой отец вырос в эпоху Эйнштейна и Гейзенберга, Нильса Бора, Поля Дирака и Ханса Бете, и все они уехали за океан, как фон Браун. Отец принадлежал уже к другому поколению, но его работа в моих глазах несла на себе отблеск их выдающихся достижений. Он рассказывал мне о них так же, как другим детям отцы рассказывали о Микки Мэнтле и Джонни Юнайтасе11 – как о хитрых и дерзких гениях, обманувших законы физики. Теория относительности и квантовая теория, по словам отца, чем-то походили на подвиг Уилли Мейса, поймавшего мяч через плечо во время чемпионата по бейсболу 1954 года. «Представляешь!» – говорил он, поднимая указательный палец и выкатывая глаза. «Но потом Бор – безумец – доказал, что все эти придурки ошибались!»
Однако легенды, которыми его привлекала Америка, были иного рода. В детстве он был одержим Диким Западом и ковбойскими романами немецкого писателя Карла Мая. Списанные у Джеймса Фенимора Купера или придуманные на пустом месте – во время своей единственной поездки в Америку Май не заезжал дальше Ниагарского водопада, – книги Мая заставили несколько поколений немецких мальчишек в своем воображении скакать галопом по пыльным равнинам Америки. Гораздо больше, чем Эйнштейном или Бором, отец представлял себя «стариной Шаттерхендом» – немецким колонистом-первопроходцем, героем самых известных романов Мая. Как и старина Шаттерхенд, отец радовался, когда приходилось применять смекалку и что-то мастерить из подручных материалов. Он был не столько теоретиком, сколько инженером, и даже не столько инженером, сколько экспериментатором – самоучкой, который втайне собирал кольцевые лазеры и другие странные устройства. Ему в принципе хватило бы складного ножа и пакета с черным порохом. Так что, каким бы странным и бестолковым с точки зрения карьерных перспектив нам этот выбор потом ни казался, когда нужно было решить, где в Америке работать, он выбрал университет Оклахомы, хотя мог поехать куда угодно. Это было самое сердце Индейской территории12, и Карл Май, конечно, упоминал ее в своих книгах.
Мама же лишь надеялась, что нам будет где жить. Если бы в Америке с жильем было так же туго, как в Германии, им пришлось бы вернуться домой. Собственный дворик, ванная с горячей водопроводной водой, продовольственный магазин рядом – мамины мечты были практического свойства. В Германии, казалось, всегда существовал только один правильный способ действий – как правильно перейти улицу, как правильно носить шляпу, как воспитывать ребенка, – и если вы осмеливались поступить иначе, кто-то обязательно вам на это указывал. В окнах мелькали любопытные лица. Ей хотелось не только приключений, но и сбежать куда подальше.
Перелетев через Атлантику, родители со старшими детьми ждали вечерней пересадки в аэропорту Айдлуайлд в Нью-Йорке13, когда напротив них села женщина с фиолетовыми волосами. Мама бросила на нее косой взгляд – Mensch! 14Неужели люди здесь все такие странные? Но ее сразу отвлекли мой брат с сестрами. Они растянулись на скамейке рядом с ней, измотанные долгим перелетом на винтовом самолете: Мартину было тогда три года, Еве – два, Монике – меньше года. (Моя младшая сестра Андреа и я родились позже, уже в Америке.) Суетящиеся и ноющие дети внезапно издали громкий вопль: мама подняла глаза и увидела, что перед ней стоит та женщина с фиолетовыми волосами. Она сходила до ближайшего торгового автомата – который сам по себе был чудом – и вернулась к ним с горстью конфет. Мама и трое детей уставились на нее, не понимая, как отнестись к этой таинственной незнакомке, принесшей дары. Дети схватили конфеты, сорвали обертку и, довольные, одну за другой съели. Это было 22 ноября 1962 года – в День благодарения.
Прошло всего семнадцать лет с момента окончания войны. Семнадцать лет с момента, когда американские солдаты освободили Дахау и Бухенвальд и увидели своими глазами последствия зверств в Ордруфе, Гунскирхене и Маутхаузене. На войне погибло почти полмиллиона американцев, домой, чтобы рассказать о ней, вернулось примерно пятнадцать миллионов ветеранов. Еще они видели потоки оборванных беженцев, разрушенные города, несчастные семьи и умирающих от голода детей на обочинах дорог. Они делились пайками и сигаретами с выжившими, танцевали линди-хоп с немецкими девушками и иногда забирали их с собой в Америку. Они знали на собственном опыте, как обманчива и лжива война и как часто переплетаются вина и невиновность.
Имена родителей были до смешного немецкими: Ханс и Эдельтраут Бильгер15. Акцент выдавал их с потрохами. Однако американцы показались им необычайно доброжелательными. Речь о войне заходила редко, а когда все же заходила, люди понимали, что родители были в то время еще детьми, поэтому разговор переходил на прадеда из Шлезвиг-Гольштейна или племянницу, учившуюся в Гейдельберге. Просто какое-то чудо.
К моменту, когда через полтора года на свет появился я, родители решили остаться в Америке навсегда. Оклахомский университет был в свое время создан за счет земельного гранта16 федерального правительства, поэтому учили здесь самым практичным вещам – сельскому хозяйству, экономике, инженерному делу и американскому футболу, причем не всегда именно в этом порядке. Расположен он был в городке Стиллуотер17 с населением двадцать пять тысяч душ, половина – студенты. Асфальт на улицах переходил в красную глину на приличном расстоянии до городской черты, а главная аллея университета шла через все четыре квартала, которые занимал городок. В зданиях на ней размещались в основном бильярдные залы и ковбойские бары, где наливали разбавленное 3,2-градусное пиво. Даже «Макдоналдса» и «Бургер-Шефа» здесь не было, не говоря уже о китайском ресторане – настолько мал был Стиллуотер. Но родителей это более чем устраивало.
На выцветших «кодахромах» тех лет кирпичи, из которых было сложено наше ранчо, еще сырые после обжига, на дворе нет деревьев и забора, а бермудская трава уже пожелтела от ветра и солнца. Сидя на террасе без тени, в окружении детей в ковбойских костюмах и летних платьях, родители улыбаются ясными улыбками и смотрят на нас беззаботными глазами людей, вырвавшихся из истории и разлетевшихся по континенту на своих переселенческих кибитках. Они вроде бы оказались максимально далеко от всего, что раньше знали, хотя, сказать по правде, было это не совсем так.
В Оклахоме своя история, напрямую связанная с тем, от чего они сбежали. В основе гитлеровских Нюрнбергских расовых законов лежали законы Джима Кроу18, принятые в Соединенных Штатах после Гражданской войны и еще в целом действовавшие, когда в Америку приехали мои родители. Оклахома вообще стала первым штатом, где даже телефонные будки были разделены по расовому признаку. Четырьмя годами ранее белые погромщики в Талсе сожгли более тысячи двухсот домов, принадлежавших темнокожим, и убили около трехсот темнокожих жителей города. Смешанные браки между темнокожими и представителями других рас были по-прежнему вне закона, а в Стиллуотере граждане с темной кожей ютились к юго-востоку от центра в квартале одноэтажных бунгало, который постоянно затапливало19. Когда был принят Закон о гражданских правах20, владельцы единственного в городе бассейна «Кристалл-Пландж» его продали – по слухам, испугались, что теперь их заставят пускать туда не только белых.
Едва ли мы тогда обращали на это внимание. Когда я вспоминаю Оклахому времен моего детства, то понимаю, что в памяти моей полно слепых зон. Мне никогда и в голову не приходило задаться вопросом, почему все мои соседи были белые. Единственное исключение – коллега отца, приехавший из Индии. При этом у меня в классе темнокожие ученики были. В школе я узнал о Дороге слез, когда шестнадцать тысяч чероки насильственно выселили из юго-восточных штатов в Оклахому, при этом четыре тысячи из них погибли в пути. Школьный рассказ, правда, заканчивался на том, как они прибыли в резервацию. Нам не рассказывали, что некоторые племена лишились большей части своих новых земель в результате принудительного распределения наделов. Никто нам не говорил, что представители народа осейджей после того, как в их резервации нашли нефть, стали богатейшими людьми на планете, но потом их начали систематически убивать и грабить нефтяные спекулянты, банкиры, «правоохранители» и прокуроры. Учителя упоминали только «пять цивилизованных племен», как они их называли, – чероки, чокто, маскогов, семинолов и чикасо, – как если бы остальные не до конца соответствовали этому «званию».
Мы жили на странном стыке между Америкой, какой ее представляли мои родители, и Германией, оставшейся в их памяти. Прошлое не уходило. Что-то в каждом из них не давало ему уйти. Они жили в Штатах по грин-картам, дома с нами говорили по-немецки, точнее на малопонятном для посторонних юго-западном алеманнском диалекте, и общались в основном только с другими немцами. (Лучшей подругой мамы была ее парикмахерша, лучшим другом отца – ее муж, бывший боксер, работавший бригадиром на сборочном предприятии.) Пока я учился в школе, отец два раза брал длинный творческий отпуск, и мы жили в Германии и во Франции, где он отдавал нас в школу, будто мы собирались там остаться надолго. Но мы все равно возвращались в Оклахому, хотя родители сохраняли немецкое гражданство – на всякий случай.
Наш дом в Стиллуотере всегда казался нам отдельным мирком, маленьким замкнутым княжеством со своими законами и невидимыми границами, эдаким Лихтенштейном в прериях. Мы ездили по тем же улицам, что и все остальные, и иногда говорили с ними на одном языке, но только для поддержания «дипломатических» отношений. По утрам в будни перед школой я смотрел выступления гитаристов и скрипачей, игравших блюграсс, на местном кабельном канале. Я не понимал, о чем они пели, но меня не покидало ощущение, что реальный мир принадлежал не нам, а им – мир проселочных дорог к востоку от города, мир арен для родео и кантри-дансингов, площадок для петушиных боев и бензоколонок, перестроенных в пятидесятнические церкви.
Мы же соблюдали свои обычаи. Мы ели Bratkartoffeln и Gurkensalat21, играли в скат и слушали немецкие поп-хиты Хильдегард Кнеф и Александры. Папа ловил своим коротковолновым «Грюндигом» новости из Германии. Накануне Рождества мы с отцом срубали кедр на ближайшем пастбище и ставили скрюченное, иссохшее из-за безводной осени дерево в гостиной, украшая его свечами, как того требовали немецкие традиции. Ветки его были настолько сухие, что могли загореться от любой искры; иглы сыпались дождем на ковер. Но мы все равно зажигали свечи, и вся семья выстраивалась по комнате на изготовку – на случай, если кедр вдруг полыхнет.
Я больше всех в семье походил на ассимилировавшегося американца, хотя по моему тевтонскому имени вряд ли об этом можно было догадаться: Буркхард значит «твердыня». Имена брата и сестер звучали нейтральнее, они были как бы послевоенными, универсальными, почти скандинавскими: Мартин, Ева, Моника, Андреа. Никаких тебе Траутвиг и Эрминтруде, Дагобертов и Бальдемаров, никаких Эдельтраут, Гернотов, Зигмаров и Винфридов – так звали маму и ее братьев. Эти имена несли в себе слишком много мифологии и истории, семейственности и кровных уз. Слишком многие такие имена были вписаны в «арийские» аусвайсы.
Мне было двадцать восемь, когда мама впервые рассказала мне, что ее отец сидел в тюрьме как военный преступник. Сейчас я бы отдал почти что угодно, лишь бы поговорить с немецкими родственниками, которые тогда еще были живы, услышать от них, что они знали о той истории. Мамин старший брат Гернот отличался язвительным и острым умом и мог говорить о своем отце с горькой преданностью старшего сына. Зигмар – средний – оказался ближе всех к отцу после войны. С годами история моего деда становилась все более интересной и странной – круги от нее расходились, «как рябь на воде, когда камень бросишь», так говорила мама, – но я старался во все это не лезть. Германия была чем-то слишком личным.