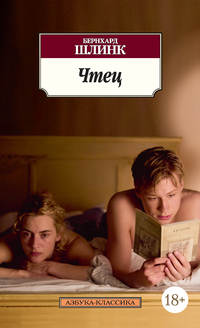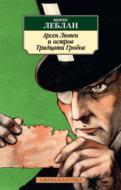Czytaj książkę: «Чтец»
Copyright © 1995 by Diogenes Verlag AG Zürich
© Б. Хлебников, перевод, послесловие, примечания, 2009
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Часть первая
1
В пятнадцать лет я переболел желтухой. Она началась осенью, а кончилась весной. Чем холоднее и темнее становился старый год, тем больше я слабел. Лишь после Нового года дело пошло на поправку. Январь выдался теплым, поэтому мать выносила мою постель на балкон. Я глядел на небо, на солнце или облака и слушал, как во дворе играют ребята. Однажды в феврале под вечер до меня донеслось пение дрозда.
Первый выход с Блюменштрассе, где мы жили на третьем этаже солидного, построенного в начале века дома, привел меня на Банхофштрассе. Как-то октябрьским понедельником я возвращался по ней из школы домой, и меня стошнило. До этого я уже несколько дней ощущал слабость, какой прежде никогда не испытывал. Каждый шаг стоил мне больших усилий. Когда приходилось подыматься по ступенькам в школе или дома, я почти не чувствовал ног. Мне и есть ничего не хотелось. Вроде бы проголодавшись, я садился за стол, однако уже через минуту даже смотреть не мог на еду. Утром во рту чувствовалась сухость, и вообще в теле возникало ощущение странной тяжести, будто все внутренности как-то перекосились. Я стыдился этой слабости. И уж совсем застыдился, когда меня стошнило. До тех пор со мною никогда такого не происходило. Рот наполнился жижей, я хотел сглотнуть, сжал губы, закрыл рот рукой, но струя прорвалась сквозь губы и через пальцы. Прислонившись к стене, я глядел на лужицу у ног и давился желтой слизью.
Женщина, пришедшая мне на помощь, обошлась со мною едва ли не грубо. Взяв мою руку, она протащила меня через темную подворотню во двор. Там между окнами были протянуты веревки, на которых сушилось белье. Здесь же лежали доски; из распахнутой двери мастерской летели опилки, тонко звенела пила. Рядом с дверью торчал водопроводный кран. Женщина открыла его, сначала вымыла мою руку, затем набрала обеими пригоршнями воды и плеснула мне в лицо. Я утерся носовым платком.
– Возьми-ка!
Возле крана стояли два ведра, женщина подняла одно и наполнила его водой. Я взял другое, прошел за ней через подворотню. Хорошенько размахнувшись, женщина выплеснула воду на тротуар и смыла жижу. Она забрала мое ведро, и за первым водопадом последовал второй.
Женщина выпрямилась и увидела, что я плачу.
– Ну что ты, малыш? – сказала она удивленно.
Она обняла меня. Я был лишь чуточку выше ростом, своей грудью я чувствовал ее грудь; уткнувшись в нее, я различал и кисловатый запах из собственного рта, и легкий запах ее пота. Непонятно было, куда девать руки; плакать я перестал.
Выяснив, где я живу, она отнесла ведра в подворотню и отвела меня домой. Она шла рядом, в одной руке несла мою школьную сумку, а в другой держала мою ладонь. От Банхофштрассе до Блюменштрассе совсем недалеко. Она шагала быстро и решительно, мне легко удавалось идти в ногу. Перед нашим домом мы распрощались.
В тот же день мать вызвала врача, который определил желтуху. Позднее я рассказал матери о той женщине. Иначе, наверное, мой последующий визит вряд ли бы состоялся. Но для матери само собой разумелось, чтобы я при первой же возможности купил на собственные карманные деньги букет цветов и сходил поблагодарить незнакомку. Так и получилось, что в конце февраля я вновь отправился на Банхофштрассе.
2
Того дома на Банхофштрассе теперь уже нет. Когда и почему его снесли, не знаю. Долгое время я не бывал в родном городе. Новое здание, построенное в семидесятых или восьмидесятых годах, насчитывает пять этажей; на верхнем этаже высокие потолки; ни балконов, ни эркеров нет, все гладкое и светлое. Множество звонков у подъезда указывает на наличие небольших отдельных квартир. В такую квартиру поселяются ненадолго, вроде того, как берут напрокат автомобиль. На нижнем этаже сейчас открыт магазин, торгующий компьютерами, которому предшествовали сначала аптека, затем продуктовый магазин, а потом видеотека.
У прежнего дома при той же высоте было четыре этажа, то есть партер, сложенный из отшлифованных кубов песчаника, и три этажа кирпичной кладки – с эркерами, балконами, каменным обрамлением окон. К парадному вела лестница с каменным бордюром и железными перилами, вверху ступеньки были поуже, внизу пошире, железки завивались спиралью. Входную дверь украшали колонны, один лев на архитраве глядел на верхнюю часть Банхофштрассе, другой – на нижнюю. Подворотня, через которую незнакомая женщина отвела меня к водопроводному крану, имела боковой вход.
Я заприметил этот дом, когда еще был совсем маленьким. Он доминировал над другими зданиями квартала. Мне казалось, если этот дом натужится и еще больше раздастся вширь, то соседние дома обязательно посторонятся, уступая ему место. В моем воображении рисовался роскошный подъезд с лепниной, зеркалами и персидской ковровой дорожкой, придавленной на парадной лестнице блестящими латунными прутьями. По-моему, в таком солидном доме могли жить только солидные господа. А поскольку сам дом с годами потемнел от сажи, летящей с проходящих неподалеку поездов, то и его обитатели представлялись людьми мрачными и, пожалуй, необычными – например, немыми или глухими, горбатыми или хромыми.
Позднее мне долгие годы снился этот дом. Все сны были одинаковыми, точнее, они варьировали одну и ту же тему. Будто я оказываюсь в чужом городе и неожиданно вижу перед собой тот самый дом. Он стоит среди других домов на улице, которая мне совершенно незнакома. Я иду дальше, недоумевая, как это я мог узнать дом в совсем не известном мне городском квартале. Тут мне приходит в голову, что уже где-то видел этот дом. Только вспоминается мне не мой родной город и не Банхофштрассе, а другой город и даже другая страна. Например, мне снится Рим, и я вижу этот дом, но мне чудится, будто прежде я видел его в Берне. Почему-то такое воспоминание успокаивает; увидеть знакомый дом в новом окружении кажется мне не более странным, чем случайная встреча со старым другом в непривычном месте. Я поворачиваю назад, возвращаюсь к дому, поднимаюсь на ступеньку. Хочу войти в парадное. Нажимаю на ручку двери.
Порою мне снится, что этот дом – за городом. Тогда сон тянется дольше, а потом лучше запоминаются подробности. Скажем, я еду на машине. Справа замечаю дом, но еду дальше, поначалу лишь слегка обескураженный тем, что дом вполне городского вида стоит в чистом поле. Мне приходит на ум, что я где-то уже видел его, и замешательство усиливается. Вспомнив наконец, откуда я знаю этот дом, поворачиваю назад. Дорога во сне всегда пуста, я несусь на огромной скорости, аж шины визжат. Я боюсь куда-то опоздать, прибавляю ходу. И вот он снова передо мной. В Пфальце дом стоит среди полей или виноградников, среди рапса или ржи, а в Провансе вокруг него заросли лаванды. Местность равнинная или же слегка холмистая. Деревьев нет. День ясен, светит солнышко, воздух слегка дрожит, шоссе поблескивает на солнцепеке. Входа не видно, он заслонен брандмауэром, поэтому кажется, будто дом вообще недоступен. Впрочем, возможно, что брандмауэр принадлежит совсем иному сооружению. Этот дом не так мрачен, как на Банхофштрассе. Зато окна его до того покрыты пылью, что сквозь них ничего не разглядишь, не видно даже гардин. Дом слеп.
Останавливаюсь на обочине, перехожу на другую сторону шоссе, направляюсь ко входу. Вокруг никого не видно, ничего не слышно – даже отдаленного звука мотора, порыва ветра, птичьего голоса. Мир умер. Поднимаюсь по ступенькам, нажимаю на ручку двери.
Но дверь не открывается. Проснувшись, я поначалу могу лишь вспомнить, что взялся за дверную ручку и нажал на нее. Но постепенно мне вспоминается весь сон, а также то, что я его уже видел раньше.
3
Как звали ту женщину, я не знал. Держа в руке букет, я нерешительно переминался с ноги на ногу перед звонками и табличками с фамилиями жильцов. Я готов был уйти. Но тут из дома вышел мужчина; поинтересовавшись, кого я разыскиваю, он направил меня к госпоже Шмиц, которая жила на четвертом этаже.
Ни лепнины, ни зеркал, ни ковровой дорожки. От скромных украшений подъезда, несравнимых с роскошью парадного входа, не осталось и следа. Красные полоски на ступеньках стерлись посредине, повытерся и узорчатый зеленый линолеум вдоль лестницы на уровне плеча; кое-где отсутствующие стойки перил были заменены веревками. Пахло каким-то моющим средством. Возможно, на все это я обратил внимание лишь позднее. Здесь всегда было одинаково убого и одинаково чисто, всегда пахло этим моющим средством, к которому иногда добавлялись запахи капусты, бобов, жаркого, кипятящегося белья. Мое знакомство с прочими жильцами ограничилось этими запахами, ковриками перед дверьми квартир да фамилиями под звонками. Не помню, чтобы мне когда-нибудь повстречался кто-либо из жильцов.
Не помню я и своих первых слов, сказанных госпоже Шмиц. Вероятно, это были несколько заранее подготовленных фраз о моей болезни, о признательности за оказанную помощь. Она пригласила меня на кухню.
Кухня была самым большим помещением в ее квартире. Здесь стояли плита и мойка, а также ванна с нагревателем, стол с двумя стульями, платяной шкаф и кушетка, покрытая красным бархатом. Окон в кухне не было. Свет сюда попадал через стеклянную дверь, которая вела на балкон. Света в кухне хватало только тогда, когда дверь была открыта. Тогда из столярной мастерской во дворе на кухню доносился визг пилы и запах древесины.
Единственная жилая комната была маленькой и узкой. Ее обстановка состояла из буфета, стола, четырех стульев, кресла с высокой спинкой и печки. Впрочем, зимой комната почти никогда не отапливалась, да и летом ею практически не пользовались. Окно выходило на Банхофштрассе с видом на территорию бывшего вокзала, теперь перерытую котлованами под новые здания суда и прочих учреждений. А еще в квартире имелась крошечная уборная без окошка. Если в ней воняло, то это чувствовалось и в коридоре.
Уже не помню, о чем мы говорили тогда на кухне. Госпожа Шмиц гладила белье на столе, на который постелила шерстяной плед, а сверху кусок полотна. Она брала из бельевой корзины одну вещь за другой, гладила ее, а потом аккуратно вешала на одном из двух стульев. На другом сидел я. Гладила она и свое нижнее белье; я старался не смотреть на него, но не мог отвести глаза. На ней был халатик без рукавов, синий в блекло-красный цветочек. Доходящие до плеч пепельного цвета волосы были схвачены на затылке заколкой. Ее голые руки показались мне бледными. Движения, которыми она поднимала утюг, гладила, складывала белье, были медлительными и собранными, с такой же медлительностью и собранностью она наклонялась или выпрямлялась. На воспоминания о ее тогдашнем выражении лица наложились более поздние воспоминания. Когда я вызываю ее теперь из своей памяти, то вижу безликой. Чтобы восстановить ее черты, приходится делать усилие. Высокий лоб, высокие скулы, голубые глаза, полные, без резких изгибов губы, рельефный подбородок. Открытое, простоватое женское лицо. Знаю, что она казалась мне красивой. Но самой красоты не помню.
4
– Погоди-ка, – сказала она, когда я встал, собираясь уходить, – мне тоже надо выйти, проводи меня немножко.
Я ждал ее в коридоре. Она переодевалась на кухне. Дверь была чуточку приоткрыта. Сняв халатик, она осталась в светло-зеленой комбинации. Чулки висели на спинке стула. Она взяла один чулок и, перебирая пальцами, скатала его край в тугой ролик. Балансируя на одной ноге, она уперлась пяткой другой ноги в колено, наклонилась, натянула скатанный ролик на мысок ступни, поставила ее на сиденье стула, расправила чулок на щиколотке, на колене, на бедре, затем отклонилась в сторону и прицепила чулок к застежке. Потом выпрямилась, убрала ногу со стула, взяла другой чулок.
Я не мог отвести от нее взгляда. От ее затылка, плеч, груди, которую комбинация скорее подчеркивала, нежели скрывала, от ягодиц, на которых натягивалась комбинация, когда она опиралась пяткой о колено или ставила ногу на стул, от ноги, сначала бледной, голой, а потом шелковисто мерцающей в чулке.
Она почувствовала мой взгляд. С чулком в руке она повернулась к двери и посмотрела мне прямо в глаза. Не знаю, что выражал ее взгляд – удивление, вопрос, понимание, упрек? Я покраснел. Какое-то мгновение я стоял с пылающим лицом. Потом, не выдержав, бросился вон из квартиры, скатился по лестнице вниз и выскочил из дома на улицу.
Брел, едва переставляя ноги. Банхофштрассе, Хойссерштрассе, Блюменштрассе – по этим улицам вот уже несколько лет я ежедневно ходил в школу. Я знал тут каждый дом, каждый палисадник, каждый ежегодно заново крашенный забор, деревяшки которого стали уже настолько серыми и трухлявыми, что я легко мог сломать их одной рукой, каждую металлическую ограду; когда я был маленьким, то трезвонил на бегу палкой по ее прутьям; вот высокая каменная стена – за нею мне всегда чудилось нечто таинственное и страшное, пока однажды я не взобрался на нее и не увидел внизу скучные, запущенные грядки с цветами, ягодами и овощами. Я хорошо знал и булыжные мостовые, и асфальтовые, и их переходы на покрытые плитками, вымощенные волнистыми базальтовыми камнями, посыпанные щебнем и галькой боковые дорожки.
Все это было мне давно знакомо. Когда колотящееся сердце успокоилось, а лицо перестало гореть, происшествие между кухней и коридором показалось оставшимся далеко позади. Я злился на себя. Сбежал, будто маленький ребенок, вместо того чтобы повести себя спокойно, как я вправе был ожидать от себя. Ведь мне было уже не девять лет, а пятнадцать. Непонятно только, что означало бы в данном случае «вести себя спокойно».
Непонятно было и само происшествие. Почему я не мог отвести от нее глаз? Ее тело было гораздо более женственным, статным, чем у девочек, которые мне нравились, на которых я засматривался. Но я был уверен, что не обратил бы на нее особого внимания, если бы увидел, например, на пляже. И была она обнажена не больше, чем девочки или женщины, которых я раньше видел на пляже. К тому же она была гораздо старше тех девочек, о которых я порой мечтал. Сколько ей, за тридцать? Трудно угадывать возраст тех, кто старше и до чьих лет тебе еще предстоит дожить.
Спустя многие годы я догадался, что дело было не столько в ее внешности, сколько в движениях и пластике. Я просил моих женщин надевать при мне чулки, но не мог объяснить им смысл моей просьбы, так как не мог сам понять загадку того, что произошло между кухней и коридором. Просьба истолковывалась как эротическая причуда, своего рода фетишизация чулок и застежек, а потому исполнялась в кокетливых позах. Но я не мог отвести взгляд вовсе не поэтому. Ведь тогда она ничуть не кокетничала. Да и вообще не могу припомнить за нею кокетства. Помню только, что ее тело, ее позы и движения казались мне немного тяжеловесными. Нет, она совсем не была сколько-нибудь грузной. Просто она как бы уходила куда-то в самую глубь своего тела, позволяя ему жить собственной, особой жизнью, ритм которой не нарушался приказаниями, шедшими из головы, и словно забывая о том, что происходит вовне и вокруг. Вот это забвение окружающего почувствовал я тогда в ее движениях, когда она надевала чулки. Нет, в ней не было, пожалуй, ничего тяжеловесного. Она была гибкой, грациозной, соблазнительной – только соблазнительными были не грудь, не ягодицы, не ноги, а приглашение забыть об окружающем мире в глубинах тела.
Тогда я всего этого еще не знал, да, возможно, и сейчас не столько знаю, сколько выдумываю. Но в тот день, стараясь понять, что же меня, собственно, взволновало, я вновь почувствовал прежнее волнение. Чтобы разрешить загадку, я вызвал в памяти ее образ, и отчуждение, которое превратило увиденное в загадку, вдруг исчезло. Я опять увидел ее перед собой и вновь не мог отвести взгляда.
5
Спустя неделю я вновь стоял у ее двери.
Всю эту неделю я старался не думать о ней. Но дни были пустыми, ничто не могло отвлечь меня; в школу не пускал врач, читать книги за последние месяцы надоело, а приятели хоть иногда и заглядывали, но болел я уже слишком долго, поэтому их визиты, становившиеся все более краткими, не могли послужить мостиком между моим времяпрепровождением и их повседневными делами. Мне предписывалось гулять, каждый день немножко дольше, чем накануне, однако при этом следовало избегать нагрузок. А они пошли бы мне, пожалуй, только на пользу.
Что за проклятье болеть в детстве или в юности! Уличное приволье доносится из-за окна, со двора лишь приглушенными звуками. В комнате же толпятся герои со своими историями из книжек, прочитанных больным ребенком. Жар, притупляя чувство реальности, обостряет фантазию и открывает в привычном окружении нечто чужое и странное; в узорах гардин мерещатся жуткие чудовища, они корчат рожи с рисунка обоев; стулья и столы, шкафы и этажерки превращаются в груды скал, причудливые сооружения или корабли, до которых вроде бы рукой подать, но в то же время они оказываются где-то далеко-далеко. А долгими ночными часами слышатся то бой часов с церковной башни, то тихий рокот проезжающей машины – отсвет ее фар скользит по стенам и потолку. Часы без сна – но это не значит, что им чего-то не хватает, наоборот. Они переполнены томлением, воспоминаниями, тревогами, смутные желания сплетаются в лабиринт, где больной теряется, находит себя вновь, чтобы заплутать опять. Это часы, когда все становится возможным – и хорошее, и дурное.
По мере выздоровления это постепенно проходит. Но если болезнь была затяжной, то комната пронизывается чем-то таким, что заставляет ребенка блуждать по прежним лабиринтам, даже когда он уже выздоравливает.
Каждое утро я просыпался с нечистой совестью; иногда на пижамных штанах оставались влажные пятна. Мне снились нехорошие сны. Правда, я знал, что меня не стали бы корить ни мать, ни священник, который готовил меня к конфирмации и которого я очень уважал, ни старшая сестра, которой я поверял свои ребяческие секреты. Но начались бы осторожные, деликатные увещевания, а это хуже любых укоров. Самым же нехорошим в моих снах было то, что они не просто приходили ко мне – я сам вызывал в себе эти грезы.
Не знаю, как я набрался смелости опять пойти к госпоже Шмиц. Может, таким образом мое нравственное воспитание восстало против себя? Ведь если вожделенный взгляд столь же греховен, как удовлетворение вожделения, а вызываемые грезы столь же греховны, как то, о чем я грезил, то не проще ли удовлетворить само желание и совершить сам грех? С каждым днем я убеждался, что не могу отделаться от греховных мыслей. А раз так, то я захотел и самого деяния.
Было и еще одно соображение. Да, идти к ней рискованно. Только невозможно, чтобы риск обернулся чем-то реальным. Наверное, госпожа Шмиц просто удивится моему приходу, выслушает извинения за мое странное поведение и дружелюбно распрощается со мной. Гораздо опаснее было для меня не идти к ней, тогда мне уж вовсе не избавиться от моих грез. Значит, надо идти. Она все поймет правильно, и я поступлю правильно, следовательно, все опять придет в норму.
Вот так я размышлял тогда, придумывая для своих вожделений причудливые моральные оправдания, чтобы заглушить угрызения совести. Но не это придало мне смелости. Да, я изобретал причины, по которым и мать, и почитаемый мною священник, и старшая сестра, хорошенько подумав, должны были бы не препятствовать моему визиту к госпоже Шмиц и даже, напротив, уговаривать меня совершить его. Но в действительности дело было совсем в другом. На самом деле я не знаю, почему я пошел к ней. Просто сегодня я распознаю в тогдашнем поступке ту схему, по которой на протяжении дальнейшей жизни согласовывались – или не согласовывались – мои мысли с моими поступками. Обычно я размышляю, прихожу к определенному выводу, превращаю этот вывод в некое решение; впрочем, теперь я сознаю, что поступок есть действие вполне самостоятельное, он может стать следствием принятого решения, но не обязательно. Мне часто приходилось делать в жизни что-то, не приняв соответствующего решения, и наоборот, я многого не делал, хотя и принимал твердое решение. Нечто, не знаю что, действует во мне само по себе; оно влечет меня к женщине, которую я не хочу больше видеть, или заставляет сказать начальнику дерзость, которая может стоить мне головы, или тянет к сигарете вопреки намерению бросить курить и вынуждает бросить курить как раз тогда, когда я смиряюсь с мыслью, что мне суждено остаться курильщиком до конца моих дней. Не стану утверждать, будто размышления и принятые решения вообще никак не влияют на поступки. Но поступки не являются простым следствием размышлений и решений. У них есть собственный источник, такое же свое самостояние, которое делает мои мысли моими мыслями, а мои решения – моими решениями.