Czytaj książkę: «Девичья фамилия»
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Главный редактор: Яна Грецова
Заместитель главного редактора: Дарья Башкова
Руководитель проекта: Елена Холодова
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайнер: Денис Изотов
Редактор: Екатерина Лобкова
Корректоры: Елена Биткова, Татьяна Редькина
Верстка: Кирилл Свищёв
Разработка дизайн-системы и стандартов стиля: DesignWorkout®
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© 2023 Aurora Tamigio
Published by arrangement with Vicki Satlow of The Agency S.r.l. and ELKOST International literary agency, Barcelona
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
* * *

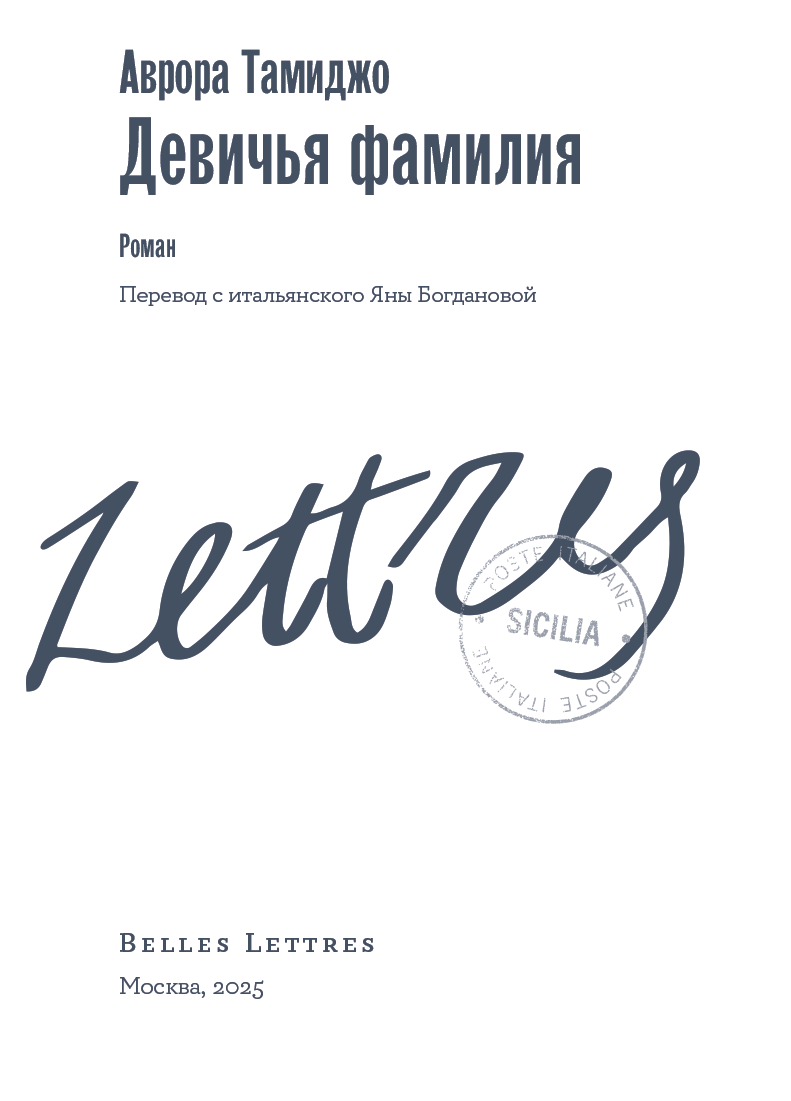
Моей маме, моим тетям, моей бабушке, от которой я унаследовала свой нос
«М» значит Маравилья
День сегодня дождливый и ветреный.
Обычно в этих числах июня люди уже ходят на море и чистят сардины, чтобы потом пожарить их на террасе. Но сегодня даже носа на улицу высовывать не стоит: небо тяжелое, словно кусок бетона, а облака стремительно бегут к краю земли и там громоздятся друг на друга, становясь все темнее и темнее.
Сельма в постели, она уже давно не встает.
Роза приносит ей куриный бульон и молоко – только такую пищу Сельма может переварить. С некоторых пор Роза решила, что будет готовить для дочери сама, а другим не позволит; и раньше горе было тому, кто без спросу подойдет к ее эмалированным кастрюлям и испанским ножам, торжественно разложенным по шкафам и ящикам, подобно медалям за отвагу, но теперь она и вовсе с ума сходит, стоит кому-то поставить кастрюлю на огонь или помешать суп. Роза часами торчит на кухне, и бульон у нее выходит аппетитный, но такой легкий, что почти не пахнет, – только он и по силам Сельме, которая сейчас ест словно птичка.
Сидя на жестком деревянном стуле рядом с кроватью, Роза наблюдает, как Сельма пьет, и лоб женщины рассекает глубокая морщина.
– Дочка, милая, я знаю, почему у тебя аппетита нет. Все оттого, что ты ешь лежа. Мы же крещеные, значит, и есть должны сидя: так правильно, тогда пища и входит, как положено, и выходит, как ей нужно.
Роза заставляет дочь выпрямиться, опереться спиной на подушки, и Сельма старается: она пробует подняться, расправляет плечи, как велела ей в детстве учительница вышивания. Но в такой позе боль в груди лишь сильнее, и с каждым вдохом ее дыхание становится все более хриплым и прерывистым. Единственный способ сдержать кашель, произнести хоть несколько связных предложений – это устроиться полулежа, вытянув ноги, и откинуться на четыре толстые подушки, подложенные под спину. Восстановив дыхание, Сельма делает несколько глотков бульона; после этого Роза успокаивается и разрешает дочери вернуться к шитью. «Зингер» пылится в гостиной, Сельма не заходила туда уже несколько недель, теперь она может только вышивать. Дочери крутятся у кровати и по очереди подают ей пяльцы, корзину для шитья, очки. Патриция не может усидеть на месте, стоит на страже у туалетного столика матери, пристально следит за ней черными глазами. Настороженный взгляд улавливает каждое движение: Сельме достаточно кивнуть, когда уймется приступ кашля, и Патриция тут же вкладывает ей в руки вышивку – витиеватую букву М, намеченную синими шелковыми нитками на белом хлопке. Лавиния, сидя на кровати в ногах у матери, наблюдает, как та иголкой выводит на ткани изящный инициал.
– Что значит буква М, мама?
– Ну и дуреха же ты! Что, по-твоему, может значить буква М? – Патриция отвечает быстрее, чем Сельма успевает открыть рот, и Лавиния бросает на сестру злобный взгляд: если та и дальше будет звать ее дурой, в конце концов все решат, будто она и вправду глупая.
– Патри, а тебя что, спрашивали? – возмущается она. – Вечно везде лезешь.
– А ну, прекратите обе.
Голос Розы заставляет внучек замолчать, а Сельма касается Лавинии тыльной стороной руки, прося продеть нитку в игольное ушко. Она плохо видит из-за лекарств, которые затуманивают зрение и разум.
Лавиния, уже успевшая сердито надуть губы, теперь сосредоточенно хмурится.
Сельма нарушает молчание:
– Хочу вышить кое-что на школьном фартуке твоей сестры. Сперва думала вышить «Маравилья» над нагрудным карманом, но, наверное, просто оставлю одну букву. Подумала, что это еще и первая буква ее имени.
Она указывает на свою младшую дочь, Маринеллу; та, лежа в изножье кровати, поднимает белокурую головку от рисунка – волны и всевозможные закорючки, нацарапанные синими и красными карандашами. Она еще совсем кроха, занимает так мало места, да и Сельме нужно немного; уже несколько дней они лежат на постели вдвоем, свернувшись, будто кошки в корзинке.
Сегодняшний день цветом как позавчерашнее молоко – зеленовато-белый. Хотя Сельма не встает с кровати, она полностью одета: красная юбка до колен и пурпурная блузка; цвета диссонируют с бледным лицом, она кажется огромной каплей крови на простыне.
В середине дня Сельма кладет вышивку на матрас и признается, что плохо себя чувствует. Она не хочет ни бульона, ни молока, Лавинии удается лишь смочить ей губы мокрым платком, расшитым ромашками. Патриция бежит звонить врачу; даже она, всегда такая ловкая и проворная, сейчас неуклюже запинается и путается в собственных ногах, как в детстве, когда пробиралась домой из школы во время снежной бури, наперекор ветру. Вернувшись в комнату матери, она больше не смеет подойти к кровати. Забившись в угол, смотрит на Сельму: голова повернута набок и покоится на подушках, волосы растрепались, воротник расстегнут, руки сцеплены на животе, ноги скрещены в лодыжках рядом с Маринеллой. Всего несколько месяцев назад Сельма поутру обходила весь рынок, а после возвращалась домой шить или готовить; только после обеда, когда все дела были переделаны, она позволяла себе отдохнуть. Патриция ни разу не видела, чтобы мать лежала в постели днем по другой причине.
Лавиния даже не думает отнимать руку, за которую цепляется Сельма.
– Мама, может, помочь тебе подняться? Так будет легче дышать. Можем даже проветрить, если хочешь.
– Мне и так удобно. Скоро все пройдет.
Роза, сидящая с другой стороны от кровати, скользит ладонью по простыне и дотрагивается до внучки.
– Оставь ее в покое.
Лавиния слушается, но не отрывает взгляда от губ Сельмы, ловя любое желание, которое сорвется с них вместе с хриплым дыханием. Она скорее готова описаться, чем отойти.
– Где Маринелла?
Задыхаясь, Сельма обшаривает взглядом комнату. Ее младшая дочь вцепилась в набалдашник у изножья кровати – спина прижата к дереву, лицо окаменело.
– Марине, подойди поближе, – зовет ее Лавиния.
Маринелла тут же оказывается рядом, но Сельма не может выпустить руку Лавинии и потому выражает свою заботу словами.
– Веди себя хорошо и слушайся сестер.
Ее запах изменился. Приблизившись, Маринелла чувствует в груди матери нечто неприятное, полускрытое ароматом жасмина, который Роза обычно кладет под подушки.
Сельма дрожит, а с ней и кровать, потолок, стены, пол.
– Господь всемогущий, землетрясение! – восклицает Роза.
Патриция бросается к Маринелле, пытаясь защитить ту от всего, что может сломаться, упасть, ушибить или ранить; она падает на пол и прячется вместе с малышкой под кроватью. Маринелла утыкается носом в шею старшей сестры, рядом с ключицей, и, кажется, собирается остаться в этом убежище навсегда.
Лавиния, вжавшись в матрас, крепче стискивает руки Сельмы и представляет, как все вокруг ломается и рушится, абсолютно все. Но не трогается с места, сжимая пальцы матери. Даже если бы она захотела убежать, она все равно не знает куда.
Роза – настороженная, с волосами, собранными в пучок, – встречается взглядом с внучкой и слушает, как дрожат стены, крыша, пол и сердца в эту минуту, которая кажется длиннее всей ее жизни. Она думает, что ничего страшного не случится, если землетрясение унесет их с собой, всех вместе, сбившихся в кучу у кровати, потому что может быть и похуже – если одни останутся жить, а другие нет.
Затем все прекращается.
И Сельма Кваранта умирает 18 июня 1970 года.
Прожив двадцать один год под фамилией Маравилья.
Роза
1
Людской закон
Отец Розы, Пиппо Ромито, всегда говорил: «Женщина что колокол: не ударишь – не запоет». С тех пор как Роза стала достаточно взрослой, чтобы сносить рукоприкладство, он только и делал, что колотил и дочь, и жену. Когда мать Розы умерла, будучи еще совсем молодой, – чему виной не только побои, но и различные болезни и прочие несчастья, – бить, кроме Розы, стало некого. Братьям тоже доставалось от отца, но меньше: может, потому, что они никогда не пытались идти ему наперекор, а может, потому, что родились мальчиками, а с мальчиками всегда обходятся мягче.
Однажды Роза спросила у своего брата Нино, как так получилось, что Пиппо Ромито постоянно их бьет, и тот ответил, что таков людской закон: отцы командуют, а дети подчиняются, пока мальчики сами не станут отцами, а девочки не научатся себя вести. Это было единственное объяснение, которого Роза добилась от мужской части семьи. Задав тот же вопрос Чекко, старшему из братьев, она получила в ответ только пощечину.
Лишь однажды Роза обратилась к отцу с просьбой: разрешить ей хоть иногда выходить из дома одной, как братьям. Ей так хотелось после мессы купить кассателлу1 с рикоттой и перекусить у ручья, опустив ноги в воду и глядя, как над головой пролетают ястребы; она бы вернулась вовремя и успела приготовить воскресный обед, тут и сомневаться нечего, ей просто хотелось чуть-чуть вздохнуть свободно. Пиппо Ромито избил ее так, что она не вставала неделю, просто за то, что доверила ему свое желание.
– Пока я жив или пока мир не перевернется с ног на голову, в этом доме я требую, а ты повинуешься. Не наоборот. Поняла?
Сельский врач, доктор Руссо, пришел проверить, не сломаны ли у Розы кости. Он посоветовал давать ей молоко, хлеб и мед, чтобы поскорее восстановить силы.
– У вас только одна дочь, мастер Пиппо. И ее неплохо бы поберечь, согласны? Вот увидите, когда придет старость, Розина будет вам подмогой.
Больше всего Пиппо Ромито раздражали две вещи. Думать о старости – и когда кто-то указывал ему, что делать. К тому же Розе уже исполнилось тринадцать, она становилась женщиной, и отцу казалось неприличным, что ее осматривает врач-мужчина. Так что доктор Руссо отправился восвояси с тремя бутылками оливкового масла и пространными благодарностями. А Пиппо Ромито пригласил взамен него Гаэтану Риццо, которую все называли Медичкой, потому что она соображала в лекарском деле, но за свои услуги брала всего одну бутылку масла.
Розе доводилось видеть издалека, как эта женщина идет по деревне, – шуршат темная юбка и рукава накидки, на шее болтаются длинные четки, черная вуаль скрывает волосы и верхнюю часть лица. Ходили слухи, что она лысая, что у нее нет мизинцев, что она ведьма. Впервые увидев ее в собственном доме, Роза укрылась простыней до самого носа, оставив снаружи только глаза, и настороженно следила за тем, как Медичка бродит по кухне. Казалось, она даже не касается ногами пола, словно между ним и подолом юбки можно просунуть палец. Разговаривая с Пиппо Ромито, она придерживала вуаль рукой, затянутой в перчатку, – глаза опущены, видны лишь кончик носа и часть лба. В ответ на каждое приказание отца она кивала, не подавая голоса; по крайней мере, Розе на кровати не было слышно того, что она говорила. Пиппо Ромито потребовал, чтобы Медичка помалкивала, – а коли примется сплетничать с деревенскими о том, что творится у него дома, пусть пеняет на себя, – но был готов щедро оплачивать работу. Он разрешил Медичке приходить и уходить по ее усмотрению, а также брать яйца из-под несушек и овощи с огорода, чтобы готовить для Розы мази и целебное питье. А если перед уходом она заправит постели, подметет пол и приготовит что-нибудь поесть, ее ждет дополнительное вознаграждение.
Когда Медичка впервые приблизилась к кровати Розы, девочка задрожала: братья рассказывали, что корзина ведьмы доверху набита пиявками, которые только и ждут, чтобы намертво присосаться к человеку и вытянуть из него не только отеки, но и всю кровь. Медичка сдернула с нее простыню, и Роза приготовилась царапаться и кусаться, лишь бы не дать посадить на себя чудовищ; но боевой задор угас, когда черная вуаль откинулась и перед девочкой предстало лицо – не молодое и не старое, с оливковой кожей, бронзовыми скулами и темными глазами. Короче говоря, лицо обыкновенной женщины, а вовсе не ведьмы. Ее длинные, до пояса, волосы были заплетены в косу. Под накидкой, которую Медичка сняла, чтобы та не сковывала движений, обнаружилось крепкое тело.
А вот мизинцев у нее и впрямь не оказалось.
– Сядь.
Роза вскрикнула, когда Медичка резким движением вправила ей лопатку. В своей плетеной корзине женщина держала не червей и не жуков, а куски чистого полотна и травяную кашицу, чтобы очищать открытые раны и делать примочки на ушибах.
– В следующий раз повернись к нему спиной. Когда отец бьет тебя, поворачивайся спиной и прикрывай лицо. Один удар – и тебя никто не возьмет. Слушайся меня, если хочешь найти себе мужа.
Медичка приходила еще несколько раз, хотя Пиппо Ромито все реже удавалось добраться до Розы: с каждым днем он дряхлел и терял силы, а дочь становилась стройной и юркой, будто ящерица, и без труда выскальзывала из его хватки. Правда, порой ей все равно доставалось, иначе Пиппо Ромито некуда было бы выпустить пар: он мог разнести в щепки всю мебель в доме или выместить злость на курах в сарае, а остаться без стульев или яиц было куда хуже. Во время одной из таких стычек Роза упала и ударилась лицом об пол, из рассеченной брови хлынула кровь, и Роза потеряла сознание, так что отец послал Чекко за Медичкой. Чтобы рана затянулась, та приготовила отвар из растения, называемого синеглазкой, в смеси с яичным белком; чтобы привести девушку в чувство после удара головой, женщина дунула ей в нос смесью перца и ладана. Роза, которая уже знала, что Медичка умеет закрывать раны, останавливать кровь и снимать отеки, очнулась, сгорая от любопытства; она тыкала пальцем в содержимое корзины и сыпала вопросами: «Для чего это?», «Что делать с этим?», «Откуда у вас вон то?». Медичка отвечала, подробно и четко, как ученая, – может, из симпатии к Розе, а может, потому, что ей надоело быть единственной ведьмой в деревне.
Через некоторое время Роза научилась готовить большинство лекарств. Укроп, тимьян и лимон, чтобы снять отеки и свести синяки; компрессы из глины на ночь, чтобы заглушить боль в костях. А еще настой аниса от боли в желудке и картофельная вода от поноса – ее братья, маявшиеся животами, высоко оценили эти средства. Однако изменило ее жизнь знакомство со свойствами корня валерианы: настоянный на семенах мака, он придавал бульону восхитительный аромат и погружал Пиппо Ромито в глубокий сон.
Роза так ничего и не узнала о жизни Медички; она набралась смелости попросить женщину преподать ей свойства целебных трав, но не спрашивала, где та спит, есть ли у нее дети, по кому она носит траур, чем занимается, когда никто в деревне не болеет. Осенью 1922 года Медичка слегла; доктор Руссо не захотел ее осматривать, и, провалявшись неделю в лихорадке, с раздувшимися, как две дыни, миндалинами и горящими легкими, она умерла в одиночестве, словно бродячая псина. Приходской священник отказался ее отпевать. Тело Медички, уже облаченное в черное, подняли с соломы и похоронили за деревней, на краю дубравы. Узнав об этом, Роза поставила на могиле крест из сухих веток.
Поначалу она даже не пыталась сама готовить мази и настои. У нее и без того было слишком много дел: помимо уборки, готовки и походов на рынок, в ее обязанности входило таскать тяжелые ведра с водой от ручья. Она возвращалась в дом, согнувшись в три погибели, чувствуя, как ручки ведер врезаются в ладони, а братья лишь заливались смехом.
– Носишь по ведру за раз, Розина? Будешь так плестись, и к осени не успеешь, – говорил Чекко.
А Нино ему вторил:
– Может, лучше завести осла?
В деревне за водой ходили женщины. Старая вдова, донна Чекка-Колченожка – ее так прозвали потому, что она хромала на одну ногу, – тратила на это весь день. Однажды Розе надоело это видеть: она встала на рассвете и, прежде чем взяться за свои ведра, наполнила три кадки в доме донны Колченожки. Вдова чуть не разрыдалась от такой доброты, ведь у нее было четверо сыновей – трое умерли от болезней, последний погиб на Пьяве2 – и ни одной дочери. Она была благодарна Розе и каждый раз, когда та приносила воду, давала девочке две лиры с портретом короля. Впервые взяв в руки настоящие деньги, Роза чуть не упала в обморок от волнения, но сдержалась и уважительно возразила:
– Я не могу принять эти деньги, донна Чекка.
Женщина сжала ее ладонь с монетами в кулак:
– Ты должна их взять. И смотри, чтобы братья не отобрали.
Роза пошла пешком в соседнюю деревню, а потом в другую, еще дальше, где ее никто не знал, ориентируясь на запах свежего хлеба, песочного теста и сладких жареных пирожков с рикоттой. На две лиры донны Колченожки она купила себе кассателлу и съела, сидя на берегу ручья, будто дикая кошка, откусывая по маленькому кусочку, то и дело облизываясь.
В шестнадцать лет Роза познакомилась с Себастьяно Кварантой. Шла весна 1925 года. Крестьяне из деревень, расположенных на склонах горы, спустились в долину, привезли сыры и овощи, пригнали скот на продажу. Бастьяно приехал на телеге, полной свеклы, цикория, фасоли в стручках и салата. Телегу тащили два ослика, настолько дряхлые, что казалось, будто они вот-вот протянут ноги. Себастьяно нахлобучил на голову бесформенную соломенную шляпу, а одет был в крестьянские лохмотья, которые выглядели не менее древними, чем его ослы, но не походил на мужлана-горца – худой, длиннорукий и длинноногий, с тонкими пальцами. Угловатые черты и острый ястребиный нос словно были вытесаны топором из ствола платана; с этим грубым лицом не вязались глаза, большие, черные, блестящие, какие бывают у умудренных жизнью лошадей. С виду он казался меланхоликом, однако на самом деле был очень жизнерадостным человеком и, когда навстречу попадались дети, играл на травинке, прижав ее к губам, будто губную гармошку. Дети смеялись, а женщины улыбались, проходя мимо его телеги и слыша эту дивную смесь свиста и пуканья.
Когда ярмарка закрылась, Себастьяно Кваранта увел с собой не только своих старых ослов, но и Розу. Никто не знал, как они сошлись. Большинство жителей деревни не видели даже, чтобы они говорили друг с другом. Поговаривали, что дочери Пиппо Ромито не терпелось отомстить отцу – и поделом, ведь тот всю жизнь морил девчонку голодом и избивал до полусмерти. Во всяком случае, Пиппо Ромито словно взбесился и кинулся искать Розу. Вместе с Чекко и Нино он обшарил всю гору, но ни там, ни в долине не нашлось человека, который захотел бы сообщить ему, где дочь.
Сбежать предложила Роза. Себастьяно хотел сделать все как положено – представиться ее семье, попросить руки, а потом обвенчаться в местной церкви. Если бы Роза пожелала, они поселились бы по соседству с ее отцом. Но она предложила просто удрать. Белокурый локон прикрывал бровь, которую Медичка залечила синеглазкой, но шрам никуда не делся.
– Я оставила дорогому папочке на память кусок собственной головы, незачем лишаться еще и твоей.
Бастьяно твердил, что не боится, что у него есть винтовка и он умеет ей пользоваться. Роза не хотела даже слушать об этом – и, по правде говоря, ни разу не видела, как он стреляет. Поэтому они просто уехали вместе. Проще всего было бы, если бы Бастьяно отвез Розу прямиком к себе домой, в горы: на телеге туда можно было добраться за день, у него имелись своя земля и небольшой дом, его уважали. Но вскоре Роза узнала, что Бастьяно не из тех, кто делает то, чего ожидают другие: он был готов совершить ошибку и стать объектом насмешек, лишь бы сделать не то, что проще, а то, чего ему хотелось. Роза должна была войти в его дом полноправной женой, а не простой девчонкой, которую он похитил в долине.
У дороги, ведущей к деревням, на восточном склоне горы, посреди цветущего луга стояла церковь; выехав на закате, Себастьяно и Роза добрались туда на телеге за несколько часов. Крошечная церковь была посвящена святому Иерониму; только крестьяне-горцы, возвращаясь домой из долины, заходили туда, чтобы исповедаться в грехах, совершенных во время торга. Это было здание из белого камня с высоким узким фасадом, центр которого украшало круглое резное окно, а стены заканчивались парой завитков. Ночью двери запирались на засов. Бастьяно предложил поспать в телеге, а ранним утром попросить приходского священника из церкви Святого Иеронима обвенчать их.
Они провели ночь без сна на жестких досках. Видя, как Себастьяно смотрит на нее, Роза не удержалась от улыбки:
– Ты что, никогда глаз не смыкаешь?
– Не всегда. Зависит от того, на что я смотрю.
Той ночью она приняла решение: либо она проведет остаток жизни с Себастьяно Кварантой, либо умрет.
На следующий день приходской священник обвенчал их, не задав ни единого вопроса, – отчасти потому, что был человеком немногословным, а отчасти потому, что Бастьяно пожертвовал церкви долю от вырученного на ярмарке. Свидетелями были церковная служанка и проходивший мимо пастух. Венчание состоялось 15 июня 1925 года. Роза была уверена, что рано или поздно отец и братья заставят ее поплатиться. Но никто так и не потребовал, чтобы она вернулась домой. Она поселилась в деревушке Сан-Ремо-а-Кастеллаццо, где у Бастьяно была земля. Спустя много лет она узнала, что ее брат Нино погиб – его задавила повозка, – а Чекко эмигрировал в Америку. Пиппо Ромито больше ее не искал.
У Себастьяно Кваранты не было ни отца, ни матери, ни сестер, поэтому Розе достался единственный в мире мужчина, который не умел бить женщин. Однако у нее ушло время, чтобы привыкнуть к этому. Как и ко всему остальному. Они были женаты уже пару недель, когда однажды вечером, снимая кувшин с высоко висевшей полки, Роза уронила половину тарелок на пол и те разбились вдребезги. Себастьяно в два прыжка оказался рядом, пытаясь поймать посуду, и увидел, как Роза скорчилась у его ног, закрывая лицо руками, как учила Медичка. Поначалу Бастьяно чувствовал себя ужасно, словно это его колотили, но со временем привык и стоял неподвижно, отрешенно глядя большими лошадиными глазами и дожидаясь, пока Роза вспомнит, в каком доме и с каким мужчиной живет. Между ними все было делом привычки. В постели тоже. Роза была уверена, что мужчины с первых дней своей жизни знают все о таких вещах, а женщинам остается тихонько лежать. Но ее муж был исключением: он ничего не знал, словно не был знаком с собственным телом. В первый раз Роза, засыпая, говорила себе: знала б раньше, что каждую ночь ее ждет вот это, так дважды подумала бы, прежде чем выйти замуж. Но следующая ночь прошла куда лучше, а дальше ей стало даже приятно. Привыкнув и к этой части семейной жизни, Роза уже не могла дождаться, когда сядет солнце, закончится ужин и случится то, что обычно происходило после. Она думала об этом целыми днями, пока Себастьяно работал в поле, а она возилась в саду, ухаживала за животными, готовила еду. Думала, просыпаясь с первыми лучами и поворачиваясь лицом к спине мужа, и долгий день в разлуке казался ей невыносимым. Иногда она придвигалась к Бастьяно, когда тот еще спал, и наблюдала за тем, как он, почувствовав ее прикосновения, открывает глаза навстречу утреннему солнцу.
Словом, через девять месяцев родился Фернандо Кваранта, который появился на свет с распахнутыми глазами, черными, как у отца. Он еще не умел ходить, когда Бастьяно объявил, что ему надоело крестьянствовать и у него есть идея получше. В деревне был старый двухэтажный сарай, нуждавшийся в ремонте; Бастьяно показал его жене и Нандо, который сидел на руках у матери и сосал палец.
– Если я продам землю и отремонтирую его, мы сможем устроить тут харчевню, куда люди будут приходить поесть и выпить. Хочешь открыть такое заведение? Ты будешь готовить, а я возьму на себя все остальное.
Роза была женщиной неглупой и полагала, что приготовление пищи – самая утомительная часть работы. Но еще она считала, что для нее мало что изменится: сейчас она только и делает, что готовит и присматривает за домом, а держать харчевню – все то же хозяйство, только нужно кормить больше ртов. Вот так они с мужем открыли первую харчевню в Сан-Ремо-а-Кастеллаццо.
Уже через несколько недель Роза убедилась, что приготовление пищи – самая утомительная часть работы, но отнюдь не самая сложная. Ей пришлось научиться многим другим вещам, поскольку Себастьяно не слишком хорошо справлялся с ролью хозяина харчевни. Он был весельчаком, что верно, то верно, и играл на губной гармошке, как профессиональный музыкант. Но Розе приходилось готовить, убирать, мыть, а еще торговаться с крестьянами, которые привозили яйца, молоко, зелень и овощи. Она рубила дрова. Платила рабочим, которые чинили крышу. И все равно не жаловалась: ей нравилось это место, нравилось с самого начала, и впервые в жизни ее все уважали. И мужчины, и женщины. Очень быстро по всем четырем деревням на горе разнеслась молва: если проезжаешь через Сан-Ремо-а-Кастеллаццо, обязательно остановись пообедать у Бастьяно и его жены Розы. Мясо, конечно, могли себе позволить только те, у кого водились деньги, но из харчевни, не заморив червячка и не запомнив имен Себастьяно Кваранты и его жены, не уходил никто.
В старом сарае, где они обустроили харчевню, имелось большое помещение со стенами, выбеленными известью, дощатым потолком и полом, вымощенным грубой плиткой, которую терпеливо укладывал Себастьяно. У двери Роза посадила глицинию, и всего через несколько лет вход уже был увит зелеными листьями и лиловыми цветками; вывески не было, но, в конце концов, в деревнях почти никто и не умел читать. Сам Себастьяно подписывался крестиком, а Розе куда лучше давались цифры. Харчевня была единственной на все четыре деревни окрест, не ошибешься. Вдоль стен – так, чтобы осталось достаточно свободного места, – были расставлены столы из оливкового дерева, накрытые клетчатыми скатертями, а на скамьях могли удобно расположиться по три человека с каждой стороны. В глубине зала, где находилась кухня, всегда кипела кастрюля с супом или подрумянивался на вертеле кролик. Роза отваривала курицу – так она дольше хранилась – и даже телятину предпочитала тушить, чтобы хрящи тоже шли в дело. Из остальных частей туши она делала колбасы и сардельки, вешала их в погребе, где хранилось вино, которое привозили из соседних деревень: из Сан-Квирино и Санта-Анастасии – на каждый день, из Сан-Бенедетто-аль-Монте-Ченере – для тех, кто хотел попробовать что-нибудь особенное. Летом Роза готовила пасту с тыквенными ростками, яичницу с цветками цукини и пироги из молока и яиц, которые получались сытнее свиного окорока.
Роза, Себастьяно и Фернандо жили на чердаке харчевни в двух комнатах с деревянным полом, куда вела каменная лестница. В этих комнатах раньше хранилось сено, там скрипели половицы и гуляли сквозняки, но Роза с нетерпением ждала целыми днями, когда закроет харчевню и заберется с мужем в кровать. Донато Кваранта родился через год после открытия харчевни и вышел на свет всего за три потуги, не доставив матери никаких хлопот. А поскольку у Розы теперь было два сына, муж и работа, она решила завести дочь. Эта мысль настолько ею овладела, что однажды вечером она заявила Себастьяно Кваранте, что собирается рожать мальчиков до тех пор, пока не появится девочка. Бедняга забеспокоился: харчевня могла прокормить их всех, но до серебряного рудника ей было далеко. Чтобы доказать, что будущему ребенку не понадобится ни серебро, ни золото, Роза принялась откладывать для дочери все монеты, которые проходили через ее руки. Крестьяне и старьевщики предпочитали расплачиваться товарами, а настоящие деньги встречались редко. Себастьяно даже не успевал их рассмотреть, а Роза уже прятала монеты в тайник, о котором знала она одна.
– Я только дочери расскажу, где лежат денежки, уж так-то их никто не отберет.
Себастьяно не знал, смеяться ему или ужасаться при виде неистребимой недоверчивости жены, с которой могла сравниться только ее уверенность в том, что рано или поздно у них появится дочь. Впрочем, он тоже кричал от радости, когда та родилась – утром в середине марта, через четыре года после второго сына. Появившись на свет, Сельма Кваранта заплакала так тихо, что женщины, толпившиеся вокруг кровати Розы, стали гадать, не немая ли она. Но Сельма не была немой, просто родилась в доме, полном мужчин, и еще не знала, можно ли ей подавать голос и как часто. Ее мать сразу же дала всем понять, что этот ребенок – ее собственный и что она никому не доверит его кормить. Она выгнала всех женщин, которые крутились рядом, и потребовала оставить ее наедине с дочерью. Хотя нужно было вести дела в харчевне и растить еще двух маленьких детей, Роза целую неделю провела в постели вместе с Сельмой, прижимала ее к груди или укладывала рядом, разговаривая с ней. В конце концов, поддавшись на уговоры и просьбы Бастьяно, она решилась вынести ребенка из спальни в большой зал харчевни, чтобы показать всей деревне, но стоило кому-нибудь попросить ее подержать или выразить излишнее умиление, Роза тут же ревниво прижимала дочь к груди.
– Хватит, сглазите еще.
Может, она шутила, а может, и нет.
Стоило детям немного повзрослеть, как Роза дала понять всем троим, что они должны приносить пользу в харчевне: заведение кормило их, а в этой семье никогда не будет ни слуг, ни горничных. Поэтому Фернандо убирал со столов, Донато носил воду в глиняных кувшинах, Сельма подметала пол и помогала ощипывать кур. Там же, за столами в зале харчевни, закончив уборку, они делали домашнее задание по арифметике и зубрили реки Италии. Будь на то воля Себастьяно, Фернандо после второго класса отправился бы учиться ремеслу, чтобы семье не приходилось платить каменщикам и плотникам; но Роза решила, что все трое ее детей не только научатся расписываться и считать, но и получат аттестат об окончании начальной школы. Так и вышло. Сначала Нандо, потом Донато и, наконец, Сельма. Когда дети не были заняты уроками, Роза отправляла их поиграть во дворике под благоухающей глицинией.
