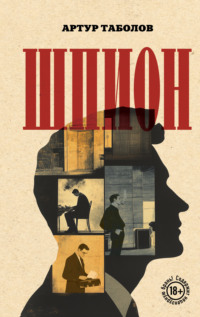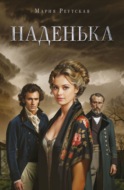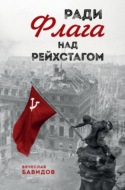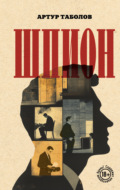Czytaj książkę: «Шпион»
© Артур Таболов, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *

Посвящается светлой памяти моей матери
Сабановой Азы Игнатьевны
«Никому еще не удавалось уклониться от выбора, перед которым его ставит история»
Артур Таболов, «Шпион»
Вместо пролога. Перебежчик
3 ноября 1947 года на военной базе британских ВВС вблизи Лондона совершил посадку тяжелый бомбардировщик «Ланкастер», прибывший из Берлина. В салоне было три человека: один штатский лет тридцати пяти, рослый, с резкими чертами лица, в габардиновом макинтоше и двубортном костюме; привлекательная женщина примерно того же возраста, модно одетая, и девочка лет восьми. Их сопровождала охрана из пяти солдат во главе с младшим офицером.
Самолет ждали. Как только он вырулил на стоянку и заглушил моторы, к трапу подкатил длинный черный лимузин с закрытыми шторками окнами. Охрана передала пассажиров «Ланкастера» трем штатским – их пересадили в машину, и лимузин в сопровождении джипа с автоматчиками выехал из ворот базы и направился в сторону Лондона.
Вечером того же дня в одном из домов на Кингстон Роуд раздался телефонный звонок. Хозяин квартиры взял трубку:
– Хопкинс, слушаю.
Звонил полковник Энтони Браун, один из заместителей директора МИ-5 сэра Перси Силлитоу, курировавший недавно созданный русский отдел британской контрразведки. Ветерану секретной службы Брауну было за шестьдесят – он начинал еще после Первой мировой войны, когда штат «Сикрет интеллиджент сервис» состоял всего из тридцати офицеров. В 1947 году их было около восьмисот. К этому времени СИС разделилась на контрразведку МИ-5 и внешнюю разведку МИ-6.
Звонок Энтони Брауна майору Хопкинсу был необычным. Напрямую они почти никогда не общались, все распоряжения передавались через начальника русского отдела.
– Вы мне нужны, Джордж, – слегка скрипучим голосом произнес Браун. – Дело срочное. Одевайтесь и выходите, машина ждет. Вы поняли?
– Да, сэр.
Срочные вызовы на службу во время войны были привычны, теперь они стали редкими. Хопкинс понял, что что-то произошло, но спрашивать не стал: о делах по телефону не говорят. Он надел шляпу и плащ, взял зонт и вышел из дома. Машина уже ждала у подъезда. Это был темно-синий Austin Seven из гаража МИ-5 – очень популярная в те годы «семерка», – на ее лаке отражался свет уличных фонарей, затуманенный моросящим дождем. Водитель молча открыл перед Хопкинсом заднюю дверь, так же молча сел за руль и завел двигатель.
Этот район Лондона сильно пострадал от немецких «Фау-2». Часть домов начали восстанавливать, развалины других обнаруживали себя зловещими черными провалами, прерывающими городские огни. Хопкинс предполагал, что его отвезут в Бленхеймский дворец, дворцовый комплекс в Вудстоке, в двенадцати километрах севернее Оксфорда, где с 1940 года располагались основные службы МИ-5. Но с Кингстон Роуд машина свернула на юг, прошелестела шинами над темной Темзой по Вестминстерскому мосту, пересекла безлюдные, словно бы настороженные, городские кварталы и вырвалась в пустоту, в ночь с мокрыми вересковыми кустарниками.
– Куда мы едем? – спросил Хопкинс.
– Куда надо, сэр, – вежливо, но как бы неохотно ответил водитель. – Будем на месте через сорок минут.
Оставалось ждать и молча смотреть, как навстречу машине летит лента пустого шоссе.
Джорджу Хопкинсу было тридцать лет. Перед войной он окончил Тринити-колледж Кембриджского университета со специализацией по славистике. Еще в детстве в мальчике обнаружилась способность к языкам. Он знал немецкий, свободно говорил по-французски, но самым любимым предметом считал русский язык. Хопкинс мечтал перевести на английский загадочного Достоевского и Чехова – не менее загадочного, но совсем в другом смысле. Те переводы, которые уже были, ему не нравились: они не передавали таинства текстов великих русских писателей.
Но карьеры переводчика не случилось. Началась война, Джорджа мобилизовали и направили в тот департамент Адмиралтейства, который вел переговоры по ленд-лизу с русскими союзниками. Дважды он сопровождал транспорт до Архангельска. Последний конвой оказался неудачным, караван был атакован немецкими истребителями и бомбардировщиками, три большегрузных судна со «студебекерами» потопили. В бою Джордж заменил убитого стрелка зенитной установки. И хотя его неумелая стрельба никакого ущерба немцам не нанесла, а сам Хопкинс был ранен в плечо, командование оценило его храбрость и самообладание – его наградили Военной медалью. В госпитале к нему пришел незнакомый человек в военной форме без знаков различия, долго расспрашивал и предложил перейти на службу в контрразведку.
– Чем занимается эта служба? – спросил Джордж.
– Ловит немецких шпионов. Нам нужны такие молодые люди, как вы. Ваше знание языков найдет у нас хорошее применение.
– Могу я подумать?
– Конечно, можете, – усмехнулся незнакомец. – Три минуты вам хватит?
Через три минуты Джордж сказал:
– Согласен.
После краткосрочных курсов он получил чин лейтенанта и был зачислен в штат оперативного управления МИ-5.
В годы войны выявление германской агентуры было главной и единственной задачей контрразведки. В 1945 году, когда был захвачен архив абвера, выяснилось, что во время войны в Великобритании активно действовали сто пятнадцать немецких шпионов. Все они были выявлены и арестованы. Лишь один избежал ареста – он покончил жизнь самоубийством. Часть германских агентов была перевербована и поставляла немцам дезинформацию, которую готовили аналитические службы МИ-5.
После речи Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже Фултона 5 марта 1946 года приоритеты британской контрразведки кардинально изменились. Через неделю в интервью «Правде» Сталин поставил Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что тот призывает Запад к войне с Советским Союзом. СССР из союзника превратился в противника – началась холодная война.
Для МИ-5 это был очень серьезный вызов. Германской разведке всегда было трудно вербовать агентуру в Англии. Исторически сложилось так, что немцев там не любили и ко всему немецкому относились с настороженностью. Совсем другое отношение было к русским. В памяти британцев еще были живы воспоминания о совместной борьбе и общей победе над фашистской Германией. В Англии легально действовала коммунистическая партия, насчитывавшая около пятидесяти тысяч членов. Социалистические идеи имели широкое распространение среди интеллигенции. Все это создавало благоприятные условия для вербовки советской внешней разведкой шпионов и агентов влияния.
Попыткой противостоять этому стала реорганизация МИ-5. В ее структуре был создан русский отдел с самыми опытными контрразведчиками. Ему были подчинены все службы. Одним из сотрудников отдела стал майор Джордж Хопкинс.
Машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и через некоторое время остановилась перед металлическими воротами.
– Приехали, сэр, – доложил водитель.
В глубине большого участка стоял двухэтажный особняк с колоннами у входа, просторными окнами второго этажа и забранными коваными решетками окнами первого этажа. Джордж хорошо знал этот дом. В начале войны он был арендован или куплен на подставное лицо хозяйственным управлением МИ-5. В нем проходили подготовку диверсионные группы перед заброской в тыл немцев: изучали радиодело, учились обращаться с взрывными устройствами, тренировались в стрельбе из всех видов оружия под руководством опытных инструкторов. За особняком, скрытые плотным строем дубов и кленов, находились небольшой стадион и тир. Джорджу приходилось здесь жить по месяцу и больше, контролируя подготовку диверсантов.
Два вооруженных охранника тщательно проверили документы прибывших и открыли ворота. «Семерка» проехала по аллее, посыпанной красным толченым кирпичом, и остановилась у входа в особняк. Здесь уже стоял тяжелый черный «даймлер» Энтони Брауна. Сам Браун, в сером сюртуке, с черным галстуком-бабочкой, сидел в кресле в просторной гостиной на втором этаже, курил трубку и читал «Таймс». Он был похож на респектабельного джентльмена на пенсии, отдыхающего в своем клубе, но никак не на матерого контрразведчика. «А на кого похож я?» – мимолетно подумал Хопкинс и сам ответил: «На мелкого банковского клерка».
Браун отложил газету и благожелательно покивал:
– Проходите и раздевайтесь, Джордж. Извините, что испортил вам вечер. Вы, вероятно, спрашиваете себя, что заставило меня это сделать?
– Мне интересно, сэр, – подтвердил Хопкинс.
– Сейчас поймете. Пойдемте, я вам кое-что покажу.
Браун выбил пепел из трубки в хрустальную пепельницу, сунул трубку в карман сюртука, тяжело поднялся с кресла и вышел из гостиной. Охраны в особняке не было видно, но Хопкинс знал, что она повсюду. По одному вооруженному человеку на каждом этаже, а то и по два.
Спустившись в подвал, Браун открыл окованную железом дверь. За ней была небольшая комната с низким потолком и узким, высотой во всю стену, окном. Из него была видна другая комната – побольше, ярко освещенная, с длинным столом посередине и четырьмя металлическими стульями вдоль него с привинченными к полу ножками. Она была на несколько метров глубже первой комнаты. Чтобы войти в нее, нужно было спуститься ниже в подвал.
Джордж знал, что это за комнаты. В большой проводили допросы, из маленькой следили за их ходом. Звук транслировался через скрытые микрофоны. Стекло было поляризованным. Оно позволяло наблюдателю видеть все, а самому оставаться невидимым.
По комнате для допросов от одной стены к другой ходил высокий, крепкого телосложения, довольно молодой мужчина с черными и странно подстриженными волосами – короткими на висках и длинными сверху. Такие прически Джордж видел у русских военных, они почему-то назывались «полубокс». Лицо у мужчины было хмурое, плохо выбритое или с отросшей щетиной. Одет он был в хороший черный костюм с накладными, по моде тех лет, плечами, но сидел он на мужчине так, словно был сшит на кого-то другого. Обычно так выглядят штатские костюмы на кадровых военных, привыкших к мундирам. Мужчина курил папиросы, сминая мундштук в гармошку. На столе лежала самодельная зажигалка из винтовочного патрона и папиросная пачка с изображением всадника на фоне какой-то горы. Пепельница была полна окурков. Но что Хопкинса удивило больше всего: на мужчине были разные ботинки – черные, похожие друг на друга, но явно разные.
– Что скажете, Джордж? – поинтересовался Браун.
– Кто это?
– Перебежчик. Русский офицер, подполковник Токаев.
– У него не славянская внешность.
– Да, он осетин. Есть такая небольшая республика на юге России. Но нам важно другое. С 1945 года он был секретарем Союзнического Контрольного совета в Германии. Комиссию возглавлял маршал Жуков. Позже Токаев работал в Военном управлении Секретариата, занимался поиском немецких ученых, участвовавших в ракетной программе фон Брауна. Некоторое время назад он вышел на нашего человека в Берлине и сообщил, что хочет получить политическое убежище в Великобритании. Я дал согласие. Сегодня его доставили в Лондон. Его, жену и дочь. Инфильтрацию пришлось проводить срочно, обратились за помощью к ВВС. Никогда еще «Ланкастер» не летал с таким грузом.
– Как ему удалось оторваться от слежки? – удивился Хопкинс. – Да еще с семьей! Они же все были под пристальным наблюдением.
– Это нам и предстоит выяснить.
– Где сейчас его жена и дочь?
– В надежном месте.
– Вы хотите, чтобы я его допросил?
– Да, этого я и хочу. По-английски он не говорит. Вам придется провести с этим человеком не один день и, возможно, не один месяц. Он очень много знает. Вы поняли, какой самый главный вопрос, который нас сейчас интересует?
– Да, сэр.
– Приступайте.
По железной лестнице Хопкинс спустился в подвал. Охранник, вооруженный автоматом STEN, открыл тяжелую дверь. При появлении Хопкинса перебежчик остановился и хмуро, исподлобья посмотрел на него.
– Садитесь, господин Токаев, – дружелюбно предложил Хопкинс. – Давайте познакомимся. Меня зовут Джордж Хопкинс, я служу в контрразведке. Зовите меня просто Джордж. Я знаю, что вы не говорите по-английски. Будем говорить на русском. Как мне называть вас?
– Григорий. Что с моей семьей? Куда их увезли?
– Не беспокойтесь, ваша семья в безопасности. Ваша жена и дочь не испытывают никаких неудобств. Удовлетворите, Григорий, мое любопытство. Я обратил внимание, что на вас разные ботинки. Почему?
– Вам никогда не приходилось собираться в спешке? – вопросом на вопрос ответил Токаев. – Когда даже минута промедления смертельно опасна?
– Нет.
– А мне пришлось.
– При каких обстоятельствах это произошло?
– Вы не с того начали, Джордж. Вас сейчас волнует совсем другой вопрос.
– Какой же?
– Не является ли мой побег попыткой советской разведки внедрить меня в Англию. Я прав?
– Да, правы. Как вы ответите на этот вопрос?
– Если я скажу «нет», вы же мне не поверите?
– Не поверю, – согласился Хопкинс.
– Вы не поверите ничему, что я скажу.
– Такова специфика нашей службы.
– В таком случае ответ вам придется искать самому.
В последующие пятьдесят шесть лет, до самой смерти подполковника Григория Токаева, британский контрразведчик Джордж Хопкинс так и не смог ответить на этот самый главный вопрос.