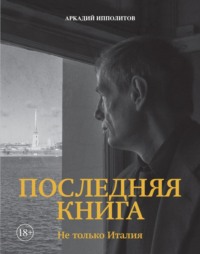Czytaj książkę: «Последняя книга. Не только Италия»
© Ипполитов А., текст глав из неопубликованной книги
© Музеи Ватикана в истории Рима / Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. С. 17–39
© Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана / Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. С. 53–61
© У ней особенная стать / Русский путь. От Дионисия до Малевича. Шедевры из собрания Третьяковской галереи и музеев России / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2018. С. 58–75
© Врубель и время / Михаил Врубель / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2021. С. 12–29
© «Венеция в Петербурге Серебряного века». Санкт-Петербургский Государственный музей театрального и музыкального искусства, каталог выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева», 2022
© Д. Сироткин, фотографии
© С. Николаевич, предисловие
© С. Николаевич, З. Трегулова. «Что жизнь была на жизнь похожа», интервью
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024 КоЛибри®

Аркадий Ипполитов. Архив С. Николаевича
Предисловие
Тень, которую зришь, – отраженный лишь образ, и только В ней – ничего своего; с тобою пришла, пребывает. Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
Овидий. Метаморфозы. III: с. 434–436
На его могильной плите лежит мраморный том Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Любимый роман, над которым возвышается мраморная римская колонна. Она будто рассечена напополам то ли временем, то ли пронесшейся бурей (архитектор Максим Атаянц). Колонна как воплощение идеального порядка вечности. Среди множества других надгробий, расположенных рядом в обычной кладбищенской тесноте, этот небольшой памятник на Новом Волковском кладбище выделяется своей классической строгостью.
Как, впрочем, выделялся всегда и сам Аркадий Ипполитов на фоне любой улицы, толпы, интерьера. Сразу бросался в глаза его высокий рост, гордая осанка, замкнутое и надменное выражение лица. Под конец своей недолгой жизни он сам стал казаться памятником, петербургским мифом. Одной из городских достопримечательностей, как Александрийский столп в центре Дворцовой площади или ростральная колонна.
Уже одно его имя, звучавшее как псевдоним, напрямую связано с несколькими мифами. Тут и Аркадия – некий утопический образ рая, пусть и подпорченный мыслями о неизбежности смерти. И редкая фамилия, напрямую рифмовавшаяся с именем пасынка пелопоннесской царицы Федры, объектом запретной страсти. По ассоциации в памяти тут же всплывают стихи Цветаевой, озвученные голосом Аллы Демидовой: «Ипполит! Ипполит! Болит! Опаляет… В жару ланиты… Что за ужас жестокий скрыт в этом имени Ипполита!» Кроме этого, в переводе с греческого «Ипполит» означает «распрягающий коней». А конь, как известно, в мировом искусстве – символ благородства и силы. Без коней Клодта и Фальконе невозможно представить себе классический образ Петербурга. Они там повсюду – на перекрестках, площадях, мостах. Эхо их парадного цоканья тоже звучит в имени Аркадия Ипполитова.
Я не застал времена, когда он носил длиннополую шубу из волка. Но те, кто видели, не могут забыть зрелища его торжественных появлений и восхождений по парадной лестнице Мухинского училища, когда эта самая шуба, картинно сползая с одного плеча, волочилась по замызганным мраморным ступеням почти как королевская мантия. В этом чувствовалось несомненное величие, и кажущаяся неприступность, и, конечно, театр, которым Аркадий пытался дистанцироваться от унылых ленинградских будней 70–80-х годов.
Наша первая встреча случилась десятилетием позже. Это уже было начало 90‐х. К тому времени он успел по второму разу жениться, побывать в Италии, стать отцом. На визитке, которую он протянул мне на прощание с петербургской церемонностью, значилось «Хранитель Кабинета итальянской гравюры Государственного Эрмитажа». Собственно, в этом статусе он и пребывал все тридцать три года, что мы были знакомы. Не думаю, что его сильно тяготило отсутствие того, что на канцелярском языке кадровиков именуется «карьерным ростом». Ипполитов и карьера – вещи несовместные. Но он был человеком привычек и четких правил. Эрмитаж был фактически вторым домом с его 12 лет, когда, став обладателем пропуска школьного кружка юных искусствоведов, он изучил всю экспозицию от начала и до конца. Как он сам мне рассказывал, больше всего любил проводить время в залах, куда редко забредают любознательные туристы, например на экспозиции Древнего Китая. Однажды не удержался и ударил в огромный бронзовый гонг в центре зала. Нет, конечно, не ударил – осторожно коснулся. Но к его ужасу, гонг загудел, запел по всему этажу. И по дворцу вдруг «пополз глубокий, тяжеловесный, необъятный звук, исполненный густоты и чистоты совершенно завораживающей». Наверное, это был голос судьбы. Можно сказать, что древний императорский гонг возвестил о появлении Аркадия Ипполитова в стенах великого музея. Именно здесь ему суждено будет провести почти 45 лет.
На самом деле, когда у тебя есть Эрмитаж, очень сложно желать чего-то еще и еще сложнее не иметь его постоянно перед глазами. Зачем еще что-то завоевывать, строить и о чем-то мечтать, когда из окна твоего кабинета каждый день открывается такой вид? Абсолютная красота. Серо-синий бурный простор Невы. Золотой шпиль Петропавловки, целящий прямо в сердце. «Самая дорогая недвижимость в Питере с надписью “Не продается!”, а он ею вроде как владел» (из рассказа «Сон Рафаэля»).
А стоит выйти за порог кабинета, как сразу попадаешь в музейные залы, где стены от потолка до пола завешаны бесценными шедеврами и заставлены штабелями разнообразных сокровищ.
Я любил приходить к Аркадию ближе к вечеру, когда схлынут туристские толпы, и можно было просто походить по музею вдвоем. Пустынно. Почти никого. Только рассохшийся паркет по-стариковски постанывал у нас под ногами. Никаких новомодных подсветок и выставочных эффектов. Привычная рассеянная тусклость освещения. Стекла бликуют. Смотрительницы зорко следят за нашими передвижениями по залам. Все, конечно, Аркадия знают и застенчиво ему улыбаются. И он, такой обычно сдержанный с малознакомыми людьми, становился подчеркнуто вежливым и внимательным с самыми скромными музейными служительницами. Я знаю, что все эти, как правило, немолодые, усталые женщины с бейджиками, приколотыми к форменным пиджакам, немного похожи на его маму Галину Петровну.
Мы общались с ней в основном по телефону. Когда я звонил им в дом, Галина Петровна обычно торопилась передать Аркадию трубку, давая тем самым понять, что не смеет претендовать на наше время. В ней была строгая стойкость неулыбчивых ленинградских женщин. Блокадница. В осажденном Ленинграде была с первого дня до последнего. Все повидала, все пережила. Всю жизнь трудилась не покладая рук. Преподавала, готовила, убирала, выхаживала, спасала… Аркадия обожала безоговорочно. И только теперь я понимаю, что эта ее любовь удерживала его от многих бездн, которые влекли его мятущуюся, романтическую и страстную натуру. Впрочем, на молодые страсти Галина Петровна взирала будто с вершин пьедестала на Пискаревском кладбище. «Лишь бы не было войны».
Теперь жалею, что ничего не выведал у нее про детство и юность Аркадия. После стольких лет знакомства и дружбы понимаю, как много в наших отношениях осталось зон умолчаний и недосказанного. Например, я ничего не знаю о его отце. Когда мы только начали общаться, Аркадий сразу предупредил, что находится с отцом в серьезном конфликте и лучше этой темы не касаться. Говорил он об этом глухо, не посвящая в подробности их разрыва. Родители уже тогда не жили вместе, хотя, кажется, так и не развелись официально. Круглый год отец обретался на даче где-то в Гатчине. А потом он умер. Узнал я об этом случайно. Опять же no comments. На мои соболезнования Аркадий ответил коротким кивком. Типа спасибо, принял к сведению. И только позднее я узнал, что это была умышленная смерть. Отец покончил с собой.
Аркадий никогда не рассказывал мне и о своей первой жене. Только и знаю, что она была итальянкой и звали ее Карла. На фотографиях – худенькая брюнетка с грустными глазами, похожая на свою тезку балерину Карлу Фраччи. Тогда, в начале 80-х, этот брак давал Аркадию легальную возможность покинуть СССР, зажить европейской жизнью, стать частью совершенно другого культурного ландшафта. Не захотел. Остался в Ленинграде, в коммунальной квартире, располагавшейся прямо за величественной воронихинской колоннадой Казанского собора. В отдельную квартиру ближе к Эрмитажу он перебрался с мамой уже при мне, сильно позднее.
Сам Аркадий всю жизнь находился в каких-то сложных мучительных отношениях со своим городом, с его прошлым и настоящим. Он застал ленинградское время, когда лучшие соборы и церкви были закрыты, а дворцы превращены в советские учреждения. Когда императорских орлов повсюду, где можно и нельзя, посбивали, заменив их на привычные серпы и молоты. Некогда роскошные витрины Невского проспекта только подчеркивали убогость советского ширпотреба и быта. Во всем чувствовалась облупленность, запущенность, обветшалость. Затихший и обнищалый город жил прошлым, безмерно раздражая советских начальников и партийных идеологов, настойчиво призывавших жить будущим.
«Бегство от времени, интровертный пассеизм стали типичными признаками ленинградского характера и стиля, болезненно стремящегося утвердить себя наследниками петербургской традиции, хотя ничего общего с ней, кроме этой болезненности, в надменной апологетике провинциальной заброшенности, определявшей Ленинград, уже не было», – читаем мы в беспощадной «Исповеди геронтофила»1.
Петербург вышел из Ленинграда запущенным и неопрятным. Иначе и быть не могло, учитывая, сколько ему всего пришлось пережить. Тем не менее Аркадий вполне благодушно принял «дивный новый мир», который с конца 80-х годов все активнее вторгался в обветшалые дворцовые анфилады и бывшие торговые ряды. В какой-то момент ему даже полюбились наглые рекламные вывески вроде неоновых Golden Girls на Невском, как и бессонное сияние рекламы Guinness на фоне петербургского ночного неба, и яростная музыка, рвавшаяся на волю из подвалов удалых клубов «Трибунал» и «Грешники».
Конечно, Аркадий был там повсюду только гостем, петербургским мечтателем из «Белых ночей» Достоевского, очутившимся в «сумрачном лесу» чуждого и опасного мира. После строгого музейного регламента и скудного эрмитажного рациона это был настоящий пир, «праздник непослушания», запоздалый бунт, который на самом деле не был никем оценен и даже замечен, но оставил в его душе серьезный след на всю жизнь.
Собственно, чем-то сродни этому бунту и пиру станет его второй брак с известной сценаристкой, кинорежиссером и телеведущей Дуней Смирновой. Впрочем, когда мы познакомились, она еще не была такой важной дамой, а считалась звездной тусовщицей, классической it girl, непременной и желанной гостьей самых ярких столичных вечеринок и премьер. Вместе они прожили недолго. С Дуней было по-разному, но точно нескучно. В конечном счете оправданием и смыслом этого брака станет их сын Данила – самый дорогой и важный человек в жизни Аркадия.
Спустя годы в эссе «Приключение петербургского змея до и после перестройки» он не побоялся сделать вызывающее признание: «Мне нравится весь этот сор, джанк, bullshit, бутылки пепси-колы и прочий треш постмодернизма, уносимый державным течением». Новая жизнь искушала не только соблазнами ночных клубов, она сулила новые возможности, звала в Москву, манила царскими, особенно по сравнению с эрмитажными, расценками, гонорарами в «Коммерсанте» и «Русском телеграфе». В роли главного искусителя и московской сирены обычно выступал Александр Тимофеевский. Собственно, он нас и познакомил.
Я хорошо помню, как Шура (именно так мы его все звали) правил статьи нашего петербургского друга для газеты «Коммерсант» и придумывал для них броские заголовки. Помню, как бесстрашно бросался на его защиту от всех недоброжелателей и клеветников. Знаю, каким он был верным, преданным и заботливым другом. И не только для Аркадия, но для всех, кого любил, кто входил в его ближайший круг. А таких людей в разные времена было немало.
По его стойкому убеждению, Аркадий мог бы стать главным идеологом новейших течений, певцом российского художественного андеграунда, стремительно у всех на глазах становившегося общепризнанным мейнстримом и даже классикой. Русские модернисты разных направлений, как и нарождающееся племя русских коллекционеров, остро нуждались в четких искусствоведческих указаниях и ориентирах. Именно Аркадий, с его эрмитажным бэкграундом и безупречной репутацией самого просвещенного человека своего поколения, оказался остро востребован и как независимый эксперт, и как знаток мирового искусства, и как вдохновенный сочинитель престижных выставок. Все художники мечтали, чтобы Аркадий о них написал. Все галеристы и продюсеры хотели заполучить его себе в качестве куратора своих проектов. Наконец, глянцевые издания наперебой предлагали ему свои мелованные страницы, а самые ловкие даже норовили использовать его в качестве модели для съемок новых модных коллекций. Рост и фактура позволяли. Несомненно, Аркадию льстило внимание таких гламурных персон, как Рената Литвинова. Да и сам он совсем был не чужд веселому гедонизму новой dolce vita. Тем не менее что-то помешало ему выбрать уготованный путь, перебраться в Москву, стать своим в столичной художественной тусовке.
Без боя и без всяких сожалений он уступил вакантное место главного арт-критика и распределителя бюджетов другим персонажам, калибром поменьше, но более предприимчивым, услужливым и пробивным. К тому же при всей своей внешней учтивости и безупречных манерах Аркадий мог быть довольно категоричным и жестким. Он не считал нужным тратить время на бессмысленные формальности и пустые светские разговоры с предполагаемыми спонсорами. Никакие соображения собственной выгоды или общепринятой дипломатии его не трогали. Но главное – он был равнодушен к современному искусству, искренне полагая, что modern art давно убили путем продаж, делячества, рекламной шумихи. Он предпочитал сохранять дистанцию, ни с кем особо не сближаясь, не вступая ни в какие союзы и кружки, всеми силами избегая любых обязательств дружбы и «заказных» статей.
В искусстве он искал тех собеседников, которые, выражаясь высокопарно, были ближе всего к его художественному идеалу. Отсюда пристрастие к художникам Новой Петербургской академии, основанной его приятелем и поклонником Тимуром Новиковым. Конечно, это всегда был взгляд со стороны, с недоступной высоты эрмитажного окна. Аркадий категорически избегал навешивать на кого-то ярлыки или расставлять художников по ранжиру. Он люто ненавидел всякую иерархию. И со своими современниками общался точно так же, как с великими классиками, не делая особых различий. Ровно и вежливо. Позволяя себе только изредка, когда это уместно, ироничную улыбку. Перед глазами он постоянно держал «мировой пейзаж», который уводил его взгляд в туманную бесконечность, но вдруг задерживался на какой-нибудь неожиданно яркой детали, вроде развевающихся черных ленточек на бескозырках моряков Гурьянова, или паука, ползущего по мраморной щеке Аполлона на фотографии Бориса Смелова, или электрической лампы, зубасто ощетинившейся на грандиозном полотне Ольги Тобрелутс «Армагеддон». Всему этому Аркадий мгновенно подбирал рифму или аналог в мировом искусстве. На все у него было свое мнение и свой вердикт, который он мгновенно выдавал, лишь изредка сверяясь с рукописными карточками эрмитажной библиотеки.
Google он как-то не особо доверял, а с современными технологиями был в довольно напряженных отношениях. Ему импонировал культ классики и красоты, который провозгласил Тимур Новиков и его последователи. Но все же новейшее искусство Аркадий воспринимал преимущественно через прошлое, через классическую традицию.
Искусство обрело свободу от патологической зависимости от страха отставания, получая возможность движения в любом направлении. Искусство существует вне Времени, поэтому искусство Несовременно. Или неСОВРЕМЕННО, все равно». (Из статьи «Что такое “современный”?»)
На самом деле это самому Ипполитову в какой-то момент больше всего захотелось обрести свободу от тесных рамок искусствоведения, от своей музейной кельи, которая временами, несмотря на чудный вид из окна, все больше смахивала на тюремную камеру, наконец, от собственной маски надменного и неприветливого сноба, так прочно приставшей к его лицу.
Ему смертельно надоело числиться по ведомству искусствоведов, хранителей, историков. Он знал, что способен на большее – быть не просто интерпретатором, просветителем, экспертом, но творцом! Отсюда тайное раздражение, которое вызывали у него потуги и претензии на творчество других. Отсюда и неудовлетворенность, которая прорывалась у него то и дело в текстах и письмах. Думаю, и один из недугов, от которых Аркадий особенно страдал в последние годы, – хронический бронхит – был реакцией на состояние перманентного удушья, в котором он пребывал. И это не фигурально, а буквально так. В эрмитажных покоях ему давно нечем было дышать. При том, что никто его специально не притеснял, не прессовал. Он мог делать – и делал! – что хотел. Насколько я знаю, его просто старались избегать. Заговор молчания музейного большинства. Ни одной новой выставки, ни одного сколько-нибудь существенного проекта. А сам Аркадий был слишком гордым человеком, чтобы самому сделать первый шаг. В этом скорбном и обиженном безмолвии и проходили по большей части его дни.
В родном городе его тоже многое раздражало. Особенно приводили в бешенство попытки так называемых «исторических воссозданий». Помню его лицо по возвращении из Летнего сада, когда там была закончена печально знаменитая реконструкция. Это было лицо человека, только что пережившего гибель близкого. Не в правилах Аркадия было охать и ахать, а тем более писать жалобные петиции. С этим почерневшим от горя лицом он сел и написал свое знаменитое эссе «Ноябрь», где предрек свою смерть («Я знаю, что умру в ноябре»). «Знаю, что умру на заре! На которой из двух, вместе с которой из двух – не решить по заказу». На самом деле он не «заказывал», не пророчил. Он, как и Цветаева, знал.
Darmowy fragment się skończył.