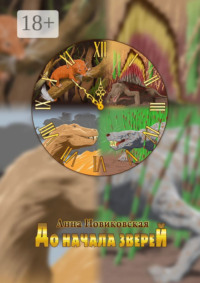Czytaj książkę: «До начала зверей»
Посвящается родным,
которых больше нет со мной.
Маме. Сестре. Бабушке.
Я вас не забуду.
Корректор Екатерина Тихомирова
Иллюстратор Артем Лоскот
Иллюстратор Дмитрий Богданов
Дизайнер обложки Мария Грас
© Анна Новиковская, 2019
© Артем Лоскот, иллюстрации, 2019
© Дмитрий Богданов, иллюстрации, 2019
© Мария Грас, дизайн обложки, 2019
ISBN 978-5-0050-4722-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Словно волшебной палочкой, раскрывает человек темные глубины неизвестного прошлого, и первобытные страны возникают перед ним в солнечном сиянии при свете дня, в сумерках тихого вечера и в темноте ночи, при спокойной погоде и при свисте ветра и грохоте бури…
Августа Иозеф
В ледяных глубинах космоса, там, где звезды шепчут друг другу о тайнах мироздания, вокруг ничем не примечательного желтого карлика вращается пылинка палевого цвета, мельчайший из всех кусочков Вселенной, за который едва ли зацепится посторонний взгляд. И небрежный представитель чужой цивилизации пролетит мимо Солнечной системы, даже не заподозрив, что на пропущенной им крошечной планете уместились четыре с половиной миллиарда лет истории, по меньшей мере десять миллионов видов живых организмов и уж никак не меньше семи миллиардов разумных существ, называющих этот мир своим домом.
Называется же планета, разумеется, Землей.
В течение многих лет, из которых уже сложились целые эоны, она кружится вокруг Солнца, точно танцовщица фламенко, и пестрое ее одеяние вспыхивает то безмятежной лазурью океанов, то ослепительной белизной ледяных шапок, горит полыхающими лавовыми озерами и наливается мертвенной позолотой разрастающихся пустынь – но, сколь бы неприветливо она ни выглядела, она всегда была, есть и остается колыбелью жизни. С самого момента своего появления в первобытном океане эти крохотные слизистые капельки, именуемые клетками, развивались и росли, объединялись в группы и увеличивали численность, постепенно начав все больше влиять на окружающий мир, все глубже проникать в течение земной истории, оставляя в ней свой собственный, уникальный и неповторимый след.
Чем является история Земли, если не историей развивающейся на ней жизни? Перемещение земных плит может заинтересовать разве что геологов, ведь это масштабный, но слишком медленный процесс, если только не представлять, как сталкивающиеся между собой континентальные блоки вызывают мощные толчки, валящие наземь деревья и заставляющие животных в панике спасаться бегством, если не воображать окутанные пламенем вулканические хребты, засыпающие мелководное море густым серым пеплом, если не переживать последствия резкой смены климата, наблюдая за обитателями влажного леса или сонного болота, собравшимися у последнего пересыхающего водопоя. Уничтожая одни виды, подобные катаклизмы всегда открывали дорогу для других форм жизни – однажды освоенные, горные склоны или каменистые пустыни никогда не оставались свободными от неожиданно покинувших их обитателей. И вместо трилобитов и ракоскорпионов мелководные моря заселили плезиозавры и ихтиозавры, лишившиеся птерозавров небеса освоили птицы и летучие мыши, а там, где сравнительно недавно мирно паслись мамонты, ныне кочуют стада северных оленей, за которыми ходят терпеливые ненцы и коряки. Все меняется, и на смену чему-то ушедшему приходит что-то новое: до нас были только звери и птицы, еще раньше планету населяли динозавры…
А что было до них? До появления «ужасных ящеров», чьи колоссальные останки столь безгранично властвуют над воображением любого, кому стоит лишь услышать о доисторических временах? Ведь динозавры появились на Земле сравнительно поздно: если сжать всю историю планеты в одни сутки, то получится, что первые живые существа плавали в океане еще в четвертом часу ночи, первые наземные животные выползли на берег только к одиннадцати часам вечера, динозаврам отвели примерно минут пятнадцать ближе к полуночи, а сам человек разумный существует лишь последние несколько секунд. Воспринимать всю историю планеты исключительно сквозь призму тираннозавровых зубов и диплодочьей длинной шеи – все равно, что пытаться любоваться цветком, выложив на белую скатерть кончик листа да ссыпав пару крупинок пыльцы – глупо и бесполезно.
И уж подавно не стоит думать, что до появления динозавров в мире не за что было зацепиться глазу, тогда как после пришествия ящеров начался «Парк Юрского периода», с рычащими на каждом углу хищниками и колоссальными травоядными, размером с дом.
Вовсе нет.
Да, динозавры были первыми наземными созданиями, достигшими столь огромных размеров, и в этом смысле их действительно никто не переплюнет – но даже в меньших масштабах порой заключается не меньшее разнообразие форм. И задолго до появления первого «ужасного ящера», когда предки трицератопсов и карнотавров еще только выбирались из породивших их тропических болот на сухие равнины, рядом с ними свое победоносное шествие начали синапсиды, называемые также звероящерами или тероморфами – удивительнейшая и необычнейшая группа наземных позвоночных.
Эти восхитительные создания, главенствовавшие на планете около пятидесяти миллионов лет, были крохотными как землеройки и огромными, подобно слонам, массивными и поджарыми, длиннохвостыми и куцыми, с продолговатыми «собачьими» челюстями и короткими мордами, покрытыми роговым чехлом, напоминающим клюв попугая. От тяжеловесных охотников каменноугольных болот, едва ли не первыми после древних амфибий перешедших на питание крупными позвоночными животными, до последних пушистых обитателей раннемелового подлеска, больше смахивающих на привычных нам сусликов и мышей – синапсиды жили по всему земному шару, от полюса до полюса, и долгое время именно их присутствие не давало предкам динозавров стать крупнее и сильнее, выйти из тени соперников и дать начало Эре Рептилий, о которой столь часто грезит современный человек.
Между прочим вроде и забывая, что не динозаврам, но именно роду зверообразных мы с вами, как и вообще все млекопитающие, обязаны своим появлением на Земле. Ибо около двухсот миллионов лет назад, примерно в то же время, что и первые динозавры, на планете возникли совершенно новые создания – произошедшие от высших синапсид представители нашего с вами мохнатого класса. Эти первые зверюшки были малы и слабы, а размножившиеся рептилии на долгие сто пятьдесят миллионов лет оттеснили пушистое племя в «подвалы» наземного мира – но млекопитающие были упорны и терпеливы. Они развивались, неустанно размножались и постепенно наращивали разнообразие, путаясь под ногами гигантских ящеров в ожидании того момента, когда ситуация на планете в очередной раз изменится.
Потому что, как уже было сказано, ни одно вымирание в истории не было настолько глобальным, чтобы дотла выжечь всех живых существ и превратить Землю в безрадостную пустошь. После вулканических извержений или метеоритной бомбардировки, задушенные глобальными изменениями климата или исчезнувшие по каким-то своим, пока еще не ведомым причинам, но живые существа неизменно захватывали утраченные плацдармы, возвращались на арену и, сперва неуверенно, но потом все быстрее и быстрее начинали отплясывать на костях своих предшественников!..
И из всех созданий, обитавших на Земле, малых или больших, лишь одно-единственное по-настоящему задумалось о том, кто населял планету до его появления. Это странное существо, вместо того, чтобы просто искать пищу, просто спасаться от хищников, просто спариваться и просто же умирать, с какой-то радости начало копаться в земле – но не ради сочных корней или вкусных личинок, но разыскивая древние, совершенно не годящиеся в пищу окаменелости, дабы проводить часы, вглядываясь в их притягательные изгибы и силясь представить себе, какими были все эти загадочные существа, исчезнувшие с лица планеты миллионы лет назад.
Имя этому необычнейшему из животных – Homo sapiens.
И, как ни странно, первые строчки его истории оказались написаны очень и очень давно, в те далекие времена, о которых и пойдет наш рассказ…
Справочный отдел
Слово о миллиардах, или Что такое геохронология
Как уже говорилось, возраст нашей планеты составляет порядка четырех с половиной миллиардов лет, и такой огромный срок уж никак нельзя измерить человеческими мерками. Год, век или даже целое тысячелетие – все это поистине ничтожно по сравнению с теми миллионами, что отделяют, скажем, вымирание последнего индрикотерия от появления первого шерстистого носорога, так что, дабы не утонуть в безбрежном океане времени, ученые-геологи прибегли к давно испытанному способу: разделили срок существования Земли на более мелкие кусочки, потом на еще более мелкие, и еще, и еще… пока, наконец, вгоняющие в дрожь четыре с половиной миллиарда не превратились в куда более удобоваримые миллионы лет.
Тоже, разумеется, не так мало… Но, по крайней мере, в этих временных промежутках еще можно разобраться!
Итак, самой крупной единицей деления геологической истории является эон, что по-древнегречески значит «эпоха» – колоссальный отрезок времени, радикально отличающийся от остальных составом и степенью развития всех сфер Земли – водной, земной, воздушной и биологической.
Всего эонов насчитывается четыре:
1. Катархей («ниже древнего») – древнейший из эонов, начавшийся в момент зарождения Земли и окончившийся примерно четыре миллиарда лет назад. Осадочных горных пород того времени не существует – они на тысячу раз успели переплавиться в земной мантии, поэтому что именно происходило в те времена на поверхности планеты – неразрешимая загадка.
2. Архей («древний») длился целых полтора миллиарда лет, и именно в те времена на планете впервые появились живые организмы. Поскольку атмосфера древней Земли была бедна кислородом, первые живые клетки были анаэробами (то есть не нуждались в кислороде, более того – для них он был ядовит!) и обитали в глубинах архейского океана – мелкого и чрезвычайно кислого соленого раствора, ставшего колыбелью всей современной жизни.
3. Протерозой («первая жизнь») был еще длиннее архея и является самым продолжительным из всех эонов: он занял почти два миллиарда лет! За это время сформировалась кислородная атмосфера, объем мирового океана достиг современного уровня, а среди живых существ появились многоклеточные организмы, в том числе многие современные беспозвоночные, такие как моллюски и членистоногие. Также некоторыми учеными предполагается, что протерозоем датируется самое продолжительное глобальное оледенение, превратившее Землю в снежный шар почти на триста миллионов лет; в результате этой катастрофы огромная часть живых организмов погибла, и лишь чудом некоторым из них удалось выжить.
4. Фанерозой («явная жизнь») – последний из эонов, начавшийся примерно 550 миллионов лет назад и продолжающийся до сих пор. Именно во время фанерозоя жизнь окрепла и расцвела, породив сложные сообщества как в океанах, так и на суше; количество ископаемых, датируемых фанерозоем, в разы превосходит все, что известно из более ранних эпох, так что ничего удивительного, что именно на этом времени сосредоточена львиная доля внимания палеонтологов, и именно про фанерозой ученым известно большего всего.
Следом за эонами «по старшинству» идут эры – несколько меньшие по размеру временные отрезки, обычно разделяемые массовыми вымираниями. Насчитывается эр целых десять, при этом большая часть их относится к архею и протерозою, тогда как из фанерозоя известно всего три эры: палеозойская («древняя жизнь»), мезозойская («средняя жизнь») и кайнозойская («новая жизнь»). Эры же делятся на периоды, каждый из которых обычно составляет от пятидесяти до ста миллионов лет (есть, впрочем, и исключения – например, силурийский период длился всего около двадцати пяти миллионов лет), и именно периоды принято считать своеобразной «универсальной единицей» измерения геологического времени, точно так же, как объем измеряют литрами, а массу – килограммами. То, что периоды могут делиться на системы, ярусы и отделы, никого особо не волнует, и если об эоархейской эре или оленекском ярусе мало кто слышал, то юрский или четвертичный периоды известны многим школьникам.
Впрочем, рассматривать все периоды истории – а их насчитывается двадцать два – не слишком-то интересно, особенно если учесть, что, опять же, чуть меньше половины их приходится на время до начала палеозойской эры… так что, пожалуй, остановимся подробно лишь на пяти периодах, имеющих к нашему рассказу непосредственное отношение. Два из них – каменноугольный и пермский – выделяются в конце палеозойской эры, а еще три – триасовый, юрский и меловой – это уже мезозой, и именно за этот промежуток времени, длившийся более двухсот миллионов лет, появились, расцвели и постепенно исчезли наши зверообразные предки, на середине своего пути успевшие-таки дать начало первым млекопитающим.


…и о миллионах, или Немного о систематике
Количество видов живых существ, населяющих Землю, поистине огромно – оно оценивается примерно в десять миллионов, при этом большая их часть по-прежнему не известна ученым. Каждый год все новые и новые имена вносятся в гигантскую библиотеку данных, и, как и во всякой библиотеке, этому впечатляющему собранию томов потребовался свой каталог, призванный не дать постороннему читателю заблудиться и запутаться в бессчетном количестве букв, слов и предложений, которыми записано биоразнообразие нашей планеты.
Так и родилась на свет наука под названием систематика.
Впервые о возможности упорядочить окружающую природу задумались еще древнегреческие мудрецы Гептадор и Аристотель, призвавшие объединять похожее с похожим, но в то же время не класть в одну корзинку розу и жабу, тритона и лягушку, а также саламандру черную и саламандру огненную, даром, что последняя и без того «кричит» о своем отличии вызывающей пятнистой окраской! Идея прижилась, и сегодня без систематики уже не обойтись, а уж в отношении ископаемых видов животных – тем более…
Вот только с ними все гораздо, гораздо сложнее.
Скажем, для примера, живет в современном мире серый волк. Canis lupus, если по-латыни, то есть волк (lupus) из рода Собак (Canis). Род этот, к слову, не такой уж многочисленный, однако только на территории России обитает сразу два его представителя: уже упомянутый серый волк, он же обыкновенный, а также азиатский шакал, он же чекалка Canis aureus. Оба этих вида довольно сильно смахивают друг на друга, внешне отличаясь лишь размерами, мелкими деталями анатомии и цветом меха, а уж по скелетам их и вовсе разграничить могут разве что специалисты, даже если кости в идеальном состоянии!
Теперь же представьте, что кости переломаны. Скручены. Частью потеряны, частью уничтожены геологическими процессами, давным-давно превратившими их в порошок. Что живые родственники обладателя костей приходятся ему далекими-далекими потомками, тысячу раз прошедшими горнила эволюции, либо же их прямое родство вообще не установлено, поэтому ученым приходится прибегать к «помощи» с левого бока притесавшихся десятиюродных внучатых племянников, дабы придать своим выводам хоть какое-то правдоподобие.
На подобном уровне быть полностью уверенным в идентификации скелета до вида?
Пф-ф-ф. Тут бы с семейством как-нибудь не ошибиться!..
Но не будем углубляться в дебри, ограничимся тем минимумом, что потребуется для переправы через двести миллионов лет, отделяющих друг от друга наших первого и последнего зверообразного предшественника. Итак, базовой единицей палеонтологической систематики, как и любой другой, служит вид, объединяющий тех животных, что разделяют общий внешний вид, анатомию и физиологию, живут в схожих условиях и способны приносить плодовитое потомство. Правда, при идентификации вымерших животных добраться до вида не так-то просто: мало того, что, как уже упоминалось, близкие виды не слишком-то отличаются друг от друга строением скелета, так еще и животные различных возрастов могут выглядеть совершенно по-разному! Поэтому тираннозавр рекс Tyrannosaurus rex как был, так и остается единственным видом рода Tyrannosaurus, тогда как род пситтакозавров Psittacosaurus насчитывает как минимум тринадцать видов животных, довольно хорошо различающихся как анатомически, так и местами обнаружения скелетов. Вдобавок, для пситтакозавров известны скопления останков молодых и взрослых животных, что позволяет с уверенностью отличать родителей и их детенышей друг о друга, так что, пожалуй, это один из немногих случаев, когда выделение нового рода ископаемых не ограничилось одним-единственным, так называемым «типовым» видом, но приобрело почти «современный» облик.
Следующим за родом обычно следует семейство, за семейством – отряд, за отрядом – класс… ну, а дальше уже идут такие крупные объединения, что обычно употребляются лишь в научной литературе, поэтому их мы рассматривать не будем. Также существует множество промежуточных делений – например, в семействе Кошачьих (Felidae) выделяют подсемейство Больших кошек (Pantherinae) – и внесистематических рангов – например, клад – которые зачастую вводятся исключительно удобства ради… либо же как «мусорная куча» для тех видов, которые пока еще не могут занять определенное положение в системе из-за малого количества окаменелостей или же сочетания нескольких противоречащих друг другу признаков, что не позволяют отнести животное к какой-то конкретной группе.
Часть I. Заря истории
Начальный этап развития наших зверообразных предков занял весьма долгий промежуток времени – с конца каменноугольного периода (или карбона) и до конца периода пермского, в общей сложности – около шестидесяти миллионов лет из тех последних, что были отведены природой на закат палеозойской эры, «эры древней жизни».
В те времена большая часть суши на планете была собрана в два гигантских континента – Лавруссию на севере и Гондвану на юге. В течение всего карбона эти два массива сближались друг с другом, и к концу периода между ними оставались лишь узкие проливы, занятые мелководным морем. Другие крупные «острова» – например, Ангарида, располагавшаяся неподалеку от Северного полюса – также двигались по направлению друг к другу, пока, наконец, не столкнулись, после чего медленно, но верно поползли на юго-запад, на встречу с Лавруссией. В конце концов все эти перемещения должны были привести к образованию единого суперконтинента – Пангеи – но до истечения каменноугольного периода теплые течения все еще безвозбранно омывали пологие берега, время от времени уступая место обширным болотам. В результате на планете установился достаточно теплый и влажный климат – идеальные условия для развития сложных форм жизни.
Знаменитые карбоновые леса, которые мы знаем под видом огромных залежей каменного угля, не только обеспечили человечество важнейшим источником энергии, но и создали плацдарм для появления множества новых животных, которых еще не видывала планета. В тени гигантских плаунов, хвощей и древовидных папоротников котел жизни бурлил вовсю, «выплевывая» из себя то сухопутных улиток, решивших покинуть уютные водоемы ради открывшихся пищевых возможностей суши, то крылатых стрекоз, первыми на Земле освоивших искусство полета, то юрких мелких «ящериц» – первых в мире рептилий и их дальних родственников – первых же зверообразных синапсид.
В те далекие времена наши предки еще никоим боком не походили на млекопитающих, и, в отличие от закованных в чешуйчатый панцирь пресмыкающихся, синапсиды также не могли похвастать полностью водонепроницаемыми кожными покровами – большую часть их тел защищала лишь сухая, но достаточно тонкая кожа, чем-то похожая на нашу. Естественно, такой «панцирь» плохо годился для освоения, скажем, сухих полупустынь (куда нередко забрасывало примитивных рептилий), что изрядно ограничило распространение синапсид, вынудив держаться ближе к влажным низменностям, а значит – и к гигантским амфибиям, что в то время были неоспоримыми владыками болотистых лесов. Спихнуть их с этого пьедестала было задачей на грани возможного: мало того, что двухметровый колостей или, еще лучше, пятиметровый фолидерпетон неосторожную «ящерицу» мог попросту проглотить, так еще и способность удерживать в организме влагу – едва ли не главный козырь ранних синапсид в борьбе за существование – в условиях заболоченных лесов не давала нашим предкам ровно никакого преимущества.
Типичная ситуация для дикой природы: эволюция не проводит кастинг и не отбирает самых совершенных претендентов – она просто выбрасывает все свои творения, вне зависимости от уровня развития, на общую игровую площадку, после чего берет в руки вместительный газетный кулек и, пощелкивая семечки, терпеливо ждет, что из этого получится. Сумел продержаться на батуте дольше остальных, сохранил все зубы после стычки с хулиганами и не позволил какой-то там девчонке занять твой участок песочницы? Молодец, значит, имеешь все шансы не оказаться «тупиковой ветвью» и продолжить свой род в новой, еще более совершенной форме. Не повезло?.. Ну что ж, тогда тебе на выход – вон туда, в выгребную яму, из которой человечество уже успело достать окаменелостей не на одну сотню тонн, и они все не заканчиваются!
Так что с этой точки зрения наши предки оказались редкостными везунчиками: они не были выбракованы из карнавала новорожденных еще на заре своего существования, и исхитрились прожить на положении «сорняков» еще почти десять миллионов лет, пока треск расползающегося ледникового щита и рокот вздымающихся горных хребтов не поприветствовали начало нового периода земной истории – пермского. Да, да, названного в 1841 году британским геологом сэром Родериком Импи Мэрчисоном в честь Пермской губернии Российской империи (по другой версии – в честь исторической области «Пермь Великая», встречающейся в русских летописях с конца XIV века), а посему являющегося единственной геологической системой, получившей «русское» название. Начавшись около трехсот миллионов лет назад, пермский период длился почти пятьдесят миллионов лет (немногим меньше, чем куда более известный юрский), и с его завершением история палеозоя необратимо подошла к концу. Ощутив на себе глобальное оледенение еще на исходе карбона и оставаясь под гнетом наступающих ледников большую часть перми, тем не менее, планета переживала довольно плодотворное время, и впервые в истории на ее просторах появились крупные сухопутные животные, уже не связанные напрямую с водной средой обитания. Это и были наши упрямые прародители, синапсиды, для которых пермский период считается эпохой величайшего расцвета, и едва ли не половина окаменелостей сухопутных позвоночных того времени относится к этим интереснейшим созданиям.
В связи с осушением климата и исчезновением большей части непроходимых заболоченных лесов (отныне они сконцентрировались только у экватора, а ближе к полюсам свое отвоевывали засухоустойчивые примитивные хвойные и семенные папоротники), наземные животные смогли выйти из зоны влияния гигантских амфибий и, пользуясь сближением древних материков, расселиться по всей суше. Нечто похожее наблюдалось и на заре эры динозавров, так что, как и на «ужасных ящеров», сегодня на пермских зверообразных можно полюбоваться в музеях по всему миру – в Бразилии, Индии, Китае, Германии, США, Южной Африке и, разумеется, в России. От крохотных «ящерок» до гигантов в несколько тонн веса, через ни на что не похожих «живых парусников» и устрашающих «саблезубых тигров», в лесах и на болотах, в сухих полупустынях и на морском побережье – наши предки пользовались любой подходящей средой обитания, чтобы заселить ее по максимуму, чтобы стать еще многочисленнее, еще разнообразнее. И хотя среди них вы не найдете подобных рогатым цератопсам или причудливым стегозаврам – что ж, следует помнить, что, в отличие от «парниковых» климатических условий мезозойской эры, климат в перми не слишком-то отличался от нынешнего. Средняя температура на планете держалась где-то в области +16º по Цельсию, к тому же, для большинства мест обитания синапсид были характерны сезонные смены климата (не просто «сухой сезон» и «сезон дождей», а именно зима, весна, лето и осень), и в таких условиях эволюции было особо не разгуляться.
Это динозавры, жившие в преимущественно ровном и мягком климате, не менявшемся миллионы лет, могли позволить себе всевозможные пластины, гребни и перепонки, большая часть которых, судя по всему, несла в основном демонстрационную функцию – синапсидам, чьи условия обитания могли поменяться всего за пару-тройку миллионов лет, излишества были ни к чему. Яркому павлину или разноцветному попугаю не место в северной тайге, так что на протяжении всего своего царствования зверообразные предпочитали «не разбрасываться», не углубляться в специализацию, но оставаться сравнительно примитивными, универсальными животными, способными в случае очередной резкой смены климата дать росток новым формам жизни. Именно поэтому среди них и не наблюдалось такого букета форм, зачастую гротескных и совершенно невероятных, и именно поэтому они процветали во времена оледенения планеты, когда все прочие их сородичи, в том числе и предки динозавров, довольствовались лишь вторыми ролями в наземных экосистемах.
Каждому – свой срок, говорит нам история развития жизни на Земле. Синапсиды ушли, уступив место динозаврам, точно так же, как в свое время сгинули гигантские рептилии, освободив дорогу млекопитающим и птицам… и, кто знает, а не исчезнем ли со временем и мы сами? Ибо велики мы лишь для самих себя, тогда как с точки зрения эволюции все человечество – горсточка песка в огромной пустыне, еще один причудливый выверт развития, и отмеряющей наш срок судьбе будет абсолютно неинтересно, сколь долгий эволюционный путь мы прошли, дабы, в конце концов, обрести разум и возомнить себя царями природы.
Путь, который начался давным-давно – в болотистых лесах на западном побережье древнего континента Лавруссия, почти 304 миллиона лет назад…