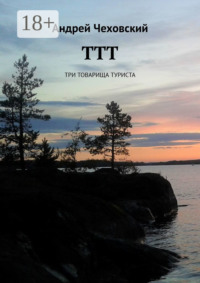Czytaj książkę: «ТТТ. Три товарища туриста»
© Андрей Чеховский, 2023
ISBN 978-5-0055-5812-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ТРИ ТОВАРИЩА ТУРИСТА
Рассказ в письмах
Предисловие
Всё началось довольно давно. Три товарища Лев, Владимир, Андрей сошлись на почве туризма. Лев и Андрей знали друг друга со времени получения образования в техникуме. Потом много лет они практически не общались, но в 80-х годах сблизились, стали ходить семейными группами в походы. Позднее оба ушли из научных институтов, где трудились, в средние школы, сделались учителями химии, физики, математики. Лев сделал этот шаг на два года раньше Андрея.
В своих школах, кроме обучения предметам, они организовали туристскую работу: двумя группами учащихся и учительниц ходили в пешие и водные походы (Подмосковье, Селигер, Крым, Кавказ, Карельский перешеек, Ладога). Вот тут к ним и присоединился Владимир, с которым Лев познакомился в одном из походов выходного дня. С первой же встречи выяснилось, что они оба сильно неравнодушны к классической музыке, очень знают и любят оперные произведения русских и нерусских композиторов. Владимир по образованию и основной профессии был юрист, по второй профессии-хобби – театральный актёр и режиссёр. Владимир стал ходить с ними в походы, с этими школьными группами. Он оказался опытный фото- и кино- любитель: делал хорошие фильмы об этих походах (тогда ещё на старой технике – 16-миллиметровой пленке).
В этих походах между этими тремя товарищами туристами неоднократно возникали споры. Владимир и Андрей критиковали Льва, как руководителя походов, за некоторые его подходы к организации и проведению походов: недостаточное питание в походе, несоблюдение правил безопасности, правил экологического поведения туристов. В пеших походах группа Льва неимоверно растягивалась и, идущий первым, руководитель не контролировал, что происходит с отставшими, более слабыми членами группы, а в водных походах лодки группы Льва не соблюдали кильватерность колонны и допустимые расстояния между ними, передовая лодка с командиром исчезала из видимости остальных, которые часто блуждали в многочисленных озёрных протоках между островами. На стоянках группа Льва часто оставляла непогашенные костры, пустые консервные банки и другой мусор. Критика старших товарищей туристов Владимира и Андрея воспринималась Львом с трудом.
Проходили годы, школьники вырастали и становились взрослыми, а наши три товарища, прибавляли в возрасте и, хотя ещё не старились, но становились менее терпеливыми, менее крепкими физически, более раздражительными. В походы они продолжали ходить, но уже малочисленными группами из взрослых, и всё чаще возникали неудовольствия у Владимира и Андрея от некоторых особенностей Льва, как руководителя походов: чрезмерно скудного питания на маршруте и чрезмерной физической нагрузки, обусловленной стремлением Льва непременно пройти намеченные им расстояния, которые реально никому из группы, и группе в целом, не нужны были. Это уже были не спортивные, а отдыхательные походы людей среднего и старшего возраста. А также сильно усложняло психологическое состояние в группе стремление Льва выбирать места для стоянок и отдельные перемещения на маршруте только такие, которые нравились ему, без учёта мнения окружающих товарищей, тоже опытных туристов.
Как один из примеров: в 2012 году в лодочном походе по Ладоге, в районе посёлка Лахденпохья Владимир, хорошо зная эти места (бывал здесь ранее), рекомендовал Льву повести лодки по какой-то протоке, чтобы между островами выйти в нужный залив и там будут подходящие места для стоянки, но Лев, уподобляясь некоторым известным людям, заявил: «Мы пойдём другим путём!». И пошёл. В результате на этом его пути не было подходящих мест для стоянки, и группа из трёх лодок совершала переход в течение 12 часов без обеденного перерыва, пока не добралась до места, годного для стоянки. Такая гребная нагрузка была едва по силам даже молодым людям, членам группы, не говоря о более пожилых Владимире и Андрее (одному было на тот момент 73 года, другому 66 лет). Оба были сильно недовольны Львом, несмотря на магию приведенных цифр. Эта история стала предпоследней каплей в назревающих накоплениях неудовольствий от походов.
Последняя капля капнула в следующем году в майском байдарочном походе по реке Серёжа. Группа из четырёх человек: три товарища туриста – Лев, Владимир, Андрей, и дамочка – четвертая как бы жена Льва (трёх предыдущих Владимир и Андрей знали, не раз ходили с ними в походы в прошлом). Две байдарки: надувная «Щука» и каркасная «Таймень». Казалось бы, не о чем спорить, легко можно всё согласовать и совершить сплав по реке в своё удовольствие. Не удалось. Лев был всё тот же: на быстроходном «Таймене» угребал вперёд, не обращая внимания на тихоходную «Щуку», грубо нарушая правила техники безопасности в водных походах – скрывался совсем из виду на извилистой реке. Которая, кстати, была в эту весеннюю пору весьма полноводна, имела быстрое течение, и однажды затянула одинокую «Щуку» с Андреем и дамочкой (как бы женой Льва) под упавшую на воду большую ветлу, едва не вывернув человека из лодки. Утонуть-то, наверное, не утонул бы, но купание в одежде в майской холодной воде на быстрине – тоже не очень большое удовольствие. А с выбором мест для стоянок – прежняя история: Лев рвался куда-то вдаль, в намеченный им конечный пункт маршрута, чего совершенно не требовалось на этой реке, так как было много по пути посёлков и деревень, от которых легко можно было добраться до железной дороги. Поэтому на все предложения Владимира сделать стоянку в тех или иных местах, удобных и красивых (где можно было бы погулять и пофотографировать), Лев отвечал категорическим отказом и делал стоянки только там, где он считал нужным. Напряжение нарастало. И когда уставшая дамочка, за два дня до намеченного окончания похода, покинула группу, ссылаясь на то, что ей срочно надо выходить на работу (она еще не была пенсионеркой), и отбыла в ближайший посёлок, и далее – на электричку и пассажирский поезд, тут-то бомба и взорвалась! Владимир и Андрей у вечернего костра на троих высказали Льву всё, что они о нём думают! На их эмоциональные выступления он ответил тоже эмоционально: «Значит, более в поход со мной не ходите!». И действительно, не стал звать Владимира и Андрея в следующие походы.
Владимир и сам после этого вечернего обсуждения решил, что больше он со Львом никуда не пойдёт. Андрей же, спустя время, всё-таки решил попробовать ещё раз сходить со Львом в лодочный поход по Ладоге, и сам напросился, так как Лев не предлагал. Это была ошибка со стороны Андрея, так как продолжилась та же история с режимом движения и с поведением командира.
Например, однажды группе пришлось совершить незапланированный ночной переход, протяженностью 5 часов, только потому, что Льву не понравилось, что рядом с их группой, на ту же поляну высадилась другая группа туристов (места для всех вполне хватало). Продрогшие в ночном переходе, члены группы, причалив к берегу в 4 часа утра, предложили командиру сделать быстро костёр и согреться чаем. Но Лев не согласился, распорядился всем разойтись по палаткам и ложиться спать, и сам первый выполнил своё распоряжение…
И конечным штрихом Льва, как руководителя, явилось то, что он два раза оставил Андрея без ужина, так как тот якобы запоздал к началу (время назначено не было) из-за задержки на рыбалке – вечерняя зоря. Оставить члена группы без вечерней порции еды – это… невозможно даже подобрать слово, что это такое. С тех пор и Андрей перестал ходить в тур-походы со Львом. Это опасно.
Три товарища туриста перестали заниматься вместе туризмом, но общаться не перестали. Благодаря электронной почте, они обменивались письмами литературной и философской направленности. Андрей за последние годы опубликовал несколько книжек: «Рассказы о школе», «Постюбилейное», «Опять». Они тоже нашли отражения в этой переписке трёх товарищей. Переписка собрана в эту книжку, но во избежание слишком большого объёма печатного издания, приведена не в полном своём объёме за последние пять лет. В переписке высказано много разных мыслей и мнений, и вполне возможно, что они окажутся достаточно интересными для других людей, особенно тех, кто знает этих трёх товарищей туристов.
2017
ЛЕВ (ЛНК)
Андрей. Друзья.
Благодарю Андрея за приглашение на фото-художественную выставку. Как-то так вышло, что, сделавшись социопатом и отщепенцем, с годами я практически перестал посещать музеи, выставки, концертные залы, театры, бани и прочие публичные площадки, предназначенные для разного рода научных, культурных, религиозных и увеселительных мероприятий. Продукт, что предлагается на этих объектах, я предпочитаю потреблять (порой с удовольствием) посредством интернета, в уютном кресле, надлежащем настроении, состоянии, избавив себя от необходимости перемещаться по мегаполису и наблюдать рядом с собой назойливо навязываемых мне случаем представителей homo. Специально оговариваюсь, что Вас таковыми я не воспринимаю, а, напротив, отношу к желанному избранному кругу, которым щедро одарила меня судьба. Однако означенные выше площадки настолько томительны для меня, что я решил отказаться от предложения Андрея.
Между тем я ощущаю особую неловкость перед Андреем, ибо лет 15—20 назад он альтруистически, безоглядно помогал мне – эгоисту организовывать мою персональную фотовыставку, по воле судьбы также проводимую в библиотеке, только по другому адресу. В связи с этим приношу Андрею своё извинение за отказ от приглашения. Вместе с тем я бы с интересом посмотрел бы в интернете работы Андрея и Светланы (с которой был когда-то знаком).
В очередной раз прошу, не воспринимать моё ренегатство безнадёжным, ибо с удовольствием я бы встретился с Вами, но в иных условиях. Где-нибудь на природе или приглашаю к себе домой.
Я прочитал первые пять «Рассказов о школе» из книги Андрея. Впечатление о прочитанном у меня противоречивое.
С одной стороны, как строгий критик, скажу, что для широкого круга читателей книга не представляет интереса, ввиду отсутствия занимательности и остроты, даже не смотря на рекламный ход о её предназначенности для всех «имеющих детей и внуков-школьников». Впрочем, одна дама, прочитав три рассказа из означенной книги, сказала, что ей понравилось.
С другой стороны, я полагаю, что именно мне, более прочих, близки и понятны темы, предложенные Андреем в своём сочинении и я был самым внимательным её читателем. Ибо во многих описанных в книге событиях школьно-туристско-репетиторских я был не просто наблюдателем, но и непосредственным участником. Поэтому, прочитав в интернете только четверть книги, я обязательно куплю её бумажную версию.
1 замечание Андрею. На мой взгляд, непрезентабильно пенсионеру-репетитору намекать на просьбу о финансовой помощи. Это было бы органично для просто пенсионера, но не для пенсионера-репетитора. Если же речь идёт о запросе рекламной поддержки, то целесообразней было бы искать её в соответсвующих секторах рынка, позиционируя себя опять-таки не как репетитора, а как соответсвующего эксперта.
2 замечание. Хоть ещё я и не дочитал до конца всё сочинение, но догадываюсь, что одной из главных тем является история исследования учебной нагрузки детей и проблема их перегрузки. (Несколько лет назад автор рассылал нам информацю об этих своих авторских исследованиях). Профессионально сталкиваясь и немало размышляя над этим вопросом, у меня возникло своё вИдение на этот счёт, которое предлагаю вашему вниманию.
Всякое исследование имеет цель. Цель, поставленная Андреем мне не ясна. Выскажу некоторые соображения на этот счёт.
Конечно же, объём школьной программы во всей полноте (классная и домашняя работа) осилить на отлично всем школьникам невозможно. И добросовестные учащиеся, пытающиеся это сделать, будут заведомо перегружены. По-видимому, этот факт объясняет бурный протест Андрея.
Но ведь об этом ещё в прошлом тысячелетии пела Алла Борисовна:
«Нагружать всё больше нас
Стали почему-то…».
Мало того, она будто предвидела в грядущем слёзы Андрея, проводящего такое исследование, предсказав:
«Кандидат наук и тот
Над задачей плачет…»
Если же масштабно взглянуть на ситуацию с научной точки зрения, то возможно, мерзкое рыло реальности подпортит идилию нашей мировоззренческой картины. Но факт останется фактом, и мы увидим, что промежуток времени, прожитый случайно возникшим видом homo, ничтожен – всего 2 млн лет на фоне миллиардов лет длящейся до того эволюции с её многообразием и сменой видов. Мало того, лишь несколько тысячелетий существует письменность и школьная традиция, возникшие в др. Египте, а в России школы сущесвуют не более тысячи лет. Конечно же, передача информации новым поколениям в школе – важнейшее условие выживания вида. Ибо в результате превратностей эволюции постепенно ценность информации, передаваемой устно, а потом и письменно, для вида homo стала важнее информации, передаваемой с генами. В отличие от прочих видов.
Однако, поскольку само существование любого вида, в. т. ч. и вида homo конечно и бессмысленно, то человечество на протяжении всей своей истории методом проб и ошибок в лихорадочном метании пыталось и продолжает пытаться определить оптимальный объём, содержание и способ передачи информации новым поколениям. Эта лихорадка, дающая о себе знать в сумбурной цепочке реформ школьного образования, по сути, является отражением слепого естественного отбора, открытого в 19 веке великим Чарльзом Робертовичем. Никто не знает: чему и как нужно учить, а последовательность проб и ошибок (реформ образования) – не более чем случайный продукт увлечений и фантазий педагогов-новаторов, а также соответсвующих министерств.
Но огорчаться по этому поводу не стоит. Ибо точно по такой же модели происходит вообще управление социумом, результатом чего является фактическая весьма неприглядная история человечества, отражающая, по сути, процесс выживания вида, процесс, открытый Чарльзом Робертовичем. Частота социальных реформ и реформ образования растет с бешеным ростом численности человечества, темпа прогресса, количества информации, (в т.ч. необходимой для трансляции новым поколениям). Проходит несколько лет и принципиально непредсказуемая действительность становится неузнаваемой, а потому обречены на провал любые попытки точно определить, чему и в каком объёме следует учить в школе. Даже если они исходят от признанных учителей-новаторов, которые, сами сделавшись музейными экспонатами, между тем погрузились в бездетную педагогику.
Возвращаюсь к началу вопроса. Перегрузка школьников – не просто банальный факт, а непрерывный, неизбежный процесс, и он не стоит затраты усилий на его выявление и констатацию. С тех пор, как Андрей, стремясь проникнуть в тайны реальности, проводил свои приватные наробразователские исследования, значительная часть предметов исчезла из школьной программы, а оставшиеся серьёзно изменились. Результаты этого исследования не могут абсолютно ни на что повлиять. Даже если они попадут в руки родителей школьников, то максимум, что может произойти – усиление градуса нервозности в доме. Единственный возможный плюс – возможное повышение спроса на репетиторство. Но несмотря на это, мне кажется, что необдуманно Андрей, поддавашись искушению саморастраты, свои знания и умения в беспрецедентных размерах инвестирует в подобные исследования.
Итог.
Как мемуар, книга представляет интерес для близкого круга, знающих автора. Как исследование —интереса не представляет. Впрочем, 3\4 книги я ещё не прочитал, и возможно, мнение моё поменяется.
Вместе с тем я поздравляю Андрея этими важными в его жизни событиями.
В качестве дополнения к выставке его работ, прилагаю неизвестный рисунок из свего частного собрания, который он сделал 54 года назад в моём присутствии на уроке «Процессы и аппараты», который вела Л. А. Будыльская, переживавшая о том, что мы перегружены учебным материалом, а сам автор и я вместе с ним (в качестве вдохновителя), созданием этого шедевра реагировали на перегрузку, приспосабливаясь к среде в соответсвтвии с концепцией Чарльза Робертовича.
Кроме того публикую в дополнение к мемуарам Андрея неизвестную иллюстрацию о том, как он раздувал пламя народного образования в 1985 г. и две исторических иллюстрации к его путешествиям по горам центральной Азии в 1989.
Л.
АНДРЕЙ (АВЧ)
Комментарий на Львиный Отзыв.
Лев, твой отзыв отжато:
Поздравляю!
Но это – полная фигня, никому не интересная и не нужная.
Хотя я и прочитал ¼ часть книги.
Жаль саморастраты автора на ерунду.
7 минусов, 1 плюс.
P.S.
1) За проведённое исследование автору в 1995 г. была присвоена квалификация*): «Учитель высшей категории (14 разряд)».
*) Институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской области (ИПК и ПРНО МО) и ГорОНО г. Пушкино.
2) Научный работник С. А. Я. (соученик ЛНК и АВЧ) сказал, что эта работа вполне могла бы стать второй диссертацией (канд. пед. наук).
А.
ЛЕВ
Достигнув возраста, когда наступление нового года скорее печалит, чем радует, и, немало размышляя о беге времени, мне странная пришла охота к жанру школьных сочинений, в результате чего предлагаю Вам в качестве сувенира своё литературно-философское исследование на означенную тему, в сильно взволновавшем меня микроцикле стихотворений М. Волошина «Когда останавливается время».
Время и М. Волошин.
Важнейший вопрос для разума: что такое время. Этот вопрос всегда стоял перед homo sapiens. Увлекательна история развития многообразных представлений о нём. Решая его, философская мысль достигла впечатляющих высот. Среди них моё внимание занял микроцикл стихотворений М. Волошина «Когда останавливается время». В нем всего-то 4 стихотворения и самое глубокое из них «По ночам, когда в тумане…». Глубина его доступна не многим и постигается не сразу. Всякий индивидуум ищет единства в мире, переполненном многообразием форм движения, попутно формируя своё мировоззрение. Результаты случаются разные. Главная трудность состоит в том, что если рассматривать бытиё и небытиё, то следует определиться с самым фундаментальным принципом, который лежит в основе субстанции, из которой состоит вообще всё (и материя, и мысль, и эмоции, и пространство). Для определения этой всеобщей субстанции, связывающей столь разнородные элементы, нужно выявить тот атрибут, что присущ им всем без исключения, и тем самым попытаться выявить предельное основание бытия. Волошин предлагает постигать действительность через время, потому что оно охватывает и жизнь индивидуума от рождения до смерти, и все прочее в мире. Ибо всё в мире проявляется через время, связывающее всё.
Не будучи учёным-астрофизиком, не зная природы, эволюции и движения звёзд, будучи стихийным, одухотворённым наблюдателем, он уполномочил звёзды – символ неизменности – фундаментальной функцией: порождать время, а самомУ процессу порождения придал характер одного из самых фундаментальных и терпеливых ремёсел – тканья. Готовой продукцией этого звёздного процесса является время, а через него – действительность. Любопытно, что в человеческой практике продукция ткацких производств называется материя.
Чтобы осознать непрерывный процесс творения материи и познать суть творимого, надо мысленно сделать в процессе остановку, остановить время и заглянуть в образовавшийся в кружеве разрыв. Этим желанием преисполнен М. Волошин под звёздным коктебельским небом на берегу Понта Эвксинского.
По ночам, когда в тумане
Звезды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Нет большей награды такому наблюдателю, чем схватить в такой момент драгоценную добычу: проявить, прояснить, разглядеть, обнаружить, как снимается покров с того, что прежде казалось непостижимым, являясь в непонятной форме, цвете, звуке, чему напряженно подыскивались эквиваленты – словА, неизменно бессильные. Осилить подобную задачу, равносильно тому, как осилить постижение пресловутой «вещи в себе».
Я ловлю в мгновенья эти,
Как свивается покров
Со всего, что в формах, в цвете,
Со всего, что в звуке слов.
В результате приходит воспоминание или грёза об ином мире, куда более значимом, чем мир настоящий, легко доступный всем. Грёза о мире куда более совершенном, чем действительный, в котором Волошин вынужден жить. Но живя в нём, он не проповедует, не морализирует, не наставляет и не вещает о «тайной доктрине», как это делал современный ему альянс истерических театральных мистиков-эзотериков-синергетиков. Он трепетно хранит свою грёзу и, не отворачиваясь от мира, в котором все ему близки, всё же в тайне сознаёт себя в этом мире, всего лишь прохожим, всему чужим.
Да, я помню мир иной —
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
При этом Волошин осознаёт, что само его собственное появление в мире, его рождение – результат случайностей, каприз слепой судьбы. Во всяком случае – событие, произошедшее без спроса на то его согласия, навязанное ему. В результате этого случая он втёк и воплотился в этом «мир замкнутых граней», главный атрибут и главная ограниченность которого – наличие времени, следствием чего является замкнутость и теснота этого мира.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.
Неизбывным ограничивающим ярмом этого мира является сам земной шар, вследствие прикованности к которому человек, проходя временной земной путь, имеет перед собой безнадёжно замкнутый горизонт, не имея при этом возможности обозревать звёздное небо во всей полноте.
Как ядро к ноге прикован
Шар земной. Свершая путь,
Я не смею, зачарован,
Вниз на звезды заглянуть.
Об этой печальной депортации из цельности и единства в отделённость вброшенного в замкнутый мир мужчины Волошин свидетельствует с известным прискорбием, ибо появление – рождение в мире означает для него понижение ранга бытия, причём ему безразлично – быть воплощенным конкретно в зверя или в человека. И то, и другое означает потерю единства с вечностью при переходе в континуум, собираемый временем.
Что одни зовут звериным,
Что одни зовут людским —
Мне, который был единым,
Стать отдельным и мужским!
Вечность, наполненная чудесами, тем не менее, кажется пустой, хотя на самом деле пустота эта жгучая, ибо затаённые в ней чудеса просто неразгаданны. Эта вечность утрачена на земле, ибо скрыта близким слоем атмосферы, привлекательно окрашенным в синеву, и потому словно пытающимся примирить с утратой.
Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примиряющих небес.
Зато тот, кому дано знание этой тайны, отчетливо видит, как всё, что наполняет бытиё, разделено на два мира: идеальный и материальный. Один из них – идеальный, с одной стороны священно-иллюзорный, ибо не более, чем миражная словесная конструкция.
Ваши детские понятья
Смерти, зла, любви, грехов —
Мир души, одетый в платье
Из священных, лживых слов.
Другой мир, радующий вещественной видимостью, материальный, заметный сквозь лживые словесные покровы. Отдалённо связь этих миров напоминает отношения вещей и вещей в себе, или феноменов и ноуменов.
Гармонично и поблёкло
В них мерцает мир вещей,
Как узорчатые стекла
В мгле готических церквей…
Но ни тот ни другой мир не удовлетворяют автора, стремящегося постичь еще боле более глубокий, субстанциональный уровень бытия. Он постоянно нацелен на это познание, но одновременно он предчувствует, что, если цель познания будет достигнута, то вряд ли открытая тайна сделает его счастливым, ибо самые глубокие мысли – самые жуткие и в этом отношении порочны для человечества, хотя и действительно являются для человечества некоей связующей субстанцией.
В вечных поисках истоков
Я люблю в себе следить
Жутких мыслей и пороков
Нас связующую нить.
Посему Волошин готов отказаться от бытия в этом чуждом ему мире, от бытия во времени. Он нетерпеливо ждёт, когда же ему будет дано покинуть эту размытую, неясную действительность, в которую попал случайно, когда же вновь его примет вечность небытия. Вечность желанная, ясная, хотя одновременно и беспощадная, суровая, полная звездным ужасом.
Когда ж уйду я в вечность снова?
И мне раскроется она,
Так ослепительно ясна
Так беспощадна, так сурова
И звездным ужасом полна!
Полностью стихотворение.
По ночам, когда в тумане
Звезды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Я ловлю в мгновенья эти,
Как свивается покров
Со всего, что в формах, в цвете,
Со всего, что в звуке слов.
Да, я помню мир иной —
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.
Как ядро к ноге прикован
Шар земной. Свершая путь,
Я не смею, зачарован,
Вниз на звезды заглянуть.
Что одни зовут звериным,
Что одни зовут людским —
Мне, который был единым,
Стать отдельным и мужским!
Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примиряющих небес.
Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примиряющих небес.
Ваши детские понятья
Смерти, зла, любви, грехов —
Мир души, одетый в платье
Из священных, лживых слов.
Гармонично и поблёкло
В них мерцает мир вещей,
Как узорчатые стекла
В мгле готических церквей…
В вечных поисках истоков
Я люблю в себе следить
Жутких мыслей и пороков
Нас связующую нить.
Когда ж уйду я в вечность снова?
И мне раскроется она,
Так ослепительно ясна
Так беспощадна, так сурова
В цикле помимо этого есть еще три значительных стихотворения, разрабатывающих основную тему времени в замкнутом мире.
В одном из них непрерывное время – это ветер, порывы которого – часы или годы, на фоне зарниц вечности.
Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо.
Вечность лишь изредка блещет зарницами.
Время порывисто дует в лицо.
Годы несутся огромными птицами.
Клочья тумана… вблизи… вдалеке.
Быстро текут очертанья.
Лампу Психеи несу я в руке —
Синее пламя познанья.
В безднах скрывается новое дно.
Формы и мысли смесились.
Все мы уж умерли где-то давно…
Все мы еще не родились.
Еще одно стихотворение из цикла о времени, как о мгновении начинается особенно остро:
Быть заключенным в темнице мгновенья,
Мчаться в потоке струящихся дней.
В прошлом разомкнуты древние звенья,
В будущем смутные лики теней.
В рассмотренном цикле Волошину удалось эксплицировать и великолепно выразить то единое, что связует всё в бесконечном мире и одновременно стягивает это в точку. В своём исследовании «Горомедон» он писал: «… все времена стягиваются в одно – настоящее. Настоящее – не точка в линейном развитии, а вместилище и того, что прошло (на самом деле спряталось), и того, что идет (на самом деле таится…) У настоящего нет граней: оно еще не перестало быть будущим и уже становится прошлым, оно уже сложено в кладовую изжитых мгновений».
Еще одно стихотворение цикла точнейшим образом отражает суть внутренней жизни тончайшего поэта и не только его, но и всякого мыслящего индивидуума:
И день и ночь шумит угрюмо,
И день и ночь на берегу
Я бесконечность стерегу
Средь свиста, грохота и шума.
Так оно выглядит внешне.
А внутри бессильный порыв:
«Гаснуть словами в обманных догадках,
Дымом кадильным стелиться вдали.
Разум запутался в траурных складках,
Мантия мрака на безднах земли».
Л.
АНДРЕЙ
Лев!
Я добрался до твоего сочинения со стихами М. Волошина. Хорошее сочинение и стихи хорошие.
Вот несколько моментов из них, которые хочется прокомментировать, иди задать по ним вопрос для уточнения.
Сначала цитаты из ваших текстов:
– Главная трудность состоит в том, что если рассматривать бытиё и небытиё, то следует определиться с самым фундаментальным принципом, который лежит в основе субстанции, из которой состоит вообще всё (и материя, и мысль, и эмоции, и пространство). Для определения этой всеобщей субстанции, связывающей столь разнородные элементы, нужно выявить тот атрибут, что присущ им всем без исключения, и тем самым попытаться выявить предельное основание бытия.
– Всякий индивидуум ищет единства в мире, переполненном многообразием форм движения, попутно формируя своё мировоззрение.
– Мне, который был единым,
– Волошину удалось эксплицировать и великолепно выразить то единое, что связует всё в бесконечном мире и одновременно стягивает это в точку.
– Об этой печальной депортации из цельности и единства в отделённость вброшенного в замкнутый мир мужчины Волошин свидетельствует с известным прискорбием, ибо появление – рождение в мире означает для него понижение ранга бытия,
Теперь комментарии и вопросы:
– а) Прежде чем рассматривать бытиё и небытиё, надо определиться с этими понятиями: что ты понимаешь под этими словами? Бытиё – это мир материальный, физический и биологическая жизнь, а небытиё – это мир нематериальный, то есть духовный, высший, чем материальный. Так что ли?
б) Что это за субстанция такая, из которой состоит всё (и материальное и нематериальное)? У тебя есть научное или философское определение этого понятия?
Не есть ли это как раз тот самый Дух, из которого всё состоит и в котором всё находится?
в) Какой же фундаментальный принцип лежит в основе этой субстанции? Не является ли этим принципом Высшее Божество?
2. О каком единстве здесь речь? О том же, о котором (по твоим словам) говорит Википедия: « Весь мир обусловлен ВсеЕдинством, то есть Богом» и Слотердайк: «Весь мир – это световые игры пульсирующего Бога». Или в твоем тексте – о другом единстве?
3. Судя по этим словам Волошина, он как раз говорит о том же Единстве, что и Википедия и Слотердайк – о Единстве Духовного и материального мира, в котором (материальном) он /Волошин/ воплотился из Духовного.
4. Единое, стягивающееся в точку, сильно напоминает Слотердайка с его теософской идеей: Бог – бесконечная сфера, центр которой везде (сорри за неточность цитирования…).
5. Из этой фразы (твоей или Волошина?) ясно видно, что мир Духовный (в котором полное Единство) – это более высокий ранг бытия, чем мир материальный. Я с этим согласен.
А.