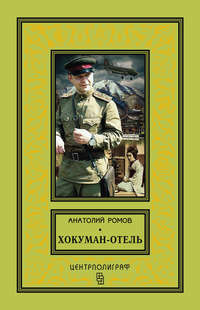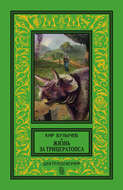Czytaj książkę: «Хокуман-отель (сборник)»
© Ромов А. С., 2017
© «Центрполиграф», 2017
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2017
Хокуман-отель
Одиннадцатого августа 1945 года 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника Кравченко прорвала оборону японцев на Чанчун-Мукденском направлении и неожиданно расчленила 3-й Квантунский фронт. Стремительно войдя в глубокий тыл японцев и преодолев Корохонский перевал, 6-я гвардейская овладела городом Лубэй и подготовила тем самым плацдарм для основных сил Забайкальского фронта. Однако она оторвалась при этом от собственных баз снабжения на четыреста пятьдесят километров, а армейские и фронтовые машины с горючим, которые могли бы выправить положение, застряли в песчаных дюнах при подходе к перевалу Корохон. Танковые войска, рвущиеся дальше, вынуждены были остановиться. В ожидании доставки горюче-смазочных материалов по воздуху 9-й гвардейский механизированный и 5-й гвардейский танковый корпуса вынуждены были временно перейти к действиям сводными отрядами. Это были по армейским масштабам считаные единицы самоходок и танков, да и то для них пришлось слить горючее со всех остальных машин. Такова была обстановка к вечеру одиннадцатого августа.
В ночь с одиннадцатого на двенадцатое на небольшом аэродроме под Лубэем на пустых бочках из-под горючего сидели двое: начальник разведотдела 6-й танковой армии полковник Шеленков и капитан Гарамов. Чуть поодаль готовился к взлету «Дуглас». Машина была окрашена в защитную краску. Накрапывал мелкий дождь, было темно, и лишь при напряженном усилии можно было разглядеть в свете потайных фонарей, как по трапу «Дугласа» санитары осторожно поднимают носилки с ранеными.
– Все понимаю, Сережа. – Полковник поправил плащ-палатку. – Понимаю, что тебе, боевому офицеру, а не какому-нибудь там, ну, в общем, ты понял… не хочется этим заниматься.
Полковник был маленьким, круглолицым. Разговаривая, он то и дело вынимал платок и стыдливо сморкался, хотя стыдиться перед Гарамовым ему было нечего. В ходе рейда, когда всему составу приходилось мокнуть двадцать четыре часа в сутки, многие были простужены.
– Но… – Полковник спрятал платок в карман. – Надо. Пойми, надо, Сережа. Бесценные это раненые.
Гарамов неопределенно кивнул:
– Понимаю, Александр Ермилович.
По этому кивку и взгляду нельзя было понять, как относится сам Гарамов к разговору. Он был выше среднего роста, худощавый. В его чертах была какая-то диковатая лихость, и тот, привычный и в то же время непривычный для русских лиц, южный колер, который обычно в России называется почему-то «казацким». А запавшие глаза, густые черные брови, вдавленные виски и горбатый нос придавали лицу Гарамова некую насмешливую мрачность, о которой он хорошо знал. Раньше, на прежней, довоенной работе, эта театральная мрачность ему не мешала. Теперь же она была Гарамову как кость в горле, и он всячески – голосом, жестом, взглядом – пытался ее затушевать.
– Ведь по-японски ты не очень хорошо? – тихо спросил Шеленков.
Гарамов пожал плечами:
– В смысле?
– Ты вел допросы?
– Так, Александр Ермилович. В размере курсов.
– Понимаю. Хонсийский диалект от хоккайдского не отличишь. Я не хочу сказать, что ты здесь с таким багажом не пригодишься. Язык еще не все…
– Александр Ермилович, – Гарамов нетерпеливо улыбнулся, – я ведь не отказываюсь.
– Я тебе совсем не потому это говорю. А для того, чтобы ты понял: задание очень важное. Пять человек раненых, которых грузят сейчас на самолет, участники глубокого разведрейда. Они располагают данными большой важности. Прорывались назад с боем, шли по дюнам без пищи и воды. Командир и заместитель до сих пор без сознания. Всех пятерых нужно срочно перебросить в тыл, в Приморье. Нужно что-нибудь еще объяснять?
– Не нужно, Александр Ермилович.
Шеленков отвернулся и, опять скрывая насморк от Гарамова, достал платок. В темноте обозначились силуэты: по выбитой посадочной площадке к ним шли трое. В одном Гарамов сразу узнал командира разведроты Седова, рядом с ним шли офицер невысокого роста и девушка. «Врач и медсестра», – наметанным взглядом определил он.
– Мы прорвали фронт, а что толку? – Шеленков спрятал платок. – Бригады стоят, а впереди Туцюань, Таоань, да и дальше… Конечно, ГСМ нам перебросят, самолеты уже готовы. Но сам знаешь – тут не одна сотня тонн нужна. Для переброски ГСМ готовят целую воздушную армию. Дождь, туман. А где посадочные площадки? Они вот у этих пятерых. Которые на носилках.
– Военврач Арутюнов, сержант медслужбы Дмитриева! – остановившись, доложил Седов.
Гарамов сразу же попытался оценить этих двоих, с которыми ему наверняка придется лететь. Военврач с капитанскими погонами чуть щурил большие карие глаза. Вначале взгляд показался Гарамову малоприятным: зрачки все время уплывали под верхние веки, узкие губы растягивались и сжимались в некоей всезнающей гримасе.
Но, приглядевшись внимательно, Гарамов все-таки вынужден был признать, что это кажущееся, а сам капитан выглядит молодцевато. Медсестра же была красивой и… капризной. Об этом говорили ее губы и взгляд, в котором сквозили уверенность в себе, озорство и понимание того, что она всем нравится.
На вид девушке было не больше девятнадцати. На голову выше врача, большеглазая, со светлыми волосами, заправленными под пилотку наспех, видимо второпях, медсестра сейчас всем своим видом будто бросала вызов всему, что ее окружало: темноте, моросящему дождю, зеленому «студебеккеру» с красным крестом, стоящим возле него промокшим санитарам. «Избалованная, видно, девица, – подумал Гарамов, – знает, что такое красивая девушка на фронте и как таких обхаживают, все прощают, как над ними все трясутся». Девушка, будто читая его мысли, покосилась. Гарамов тут же пристыдил себя: «Что ты к ней пристал. Она же не виновата».
Шеленков, мельком оглядев девушку и военврача, показал на стоящие рядом пустые бочки:
– Садитесь, товарищи. Тара, по-моему, чистая.
Медсестра и врач сели. Седов ушел. Шеленков взял у Гарамова карту, расстелил на коленях, посмотрел на врача:
– Кажется, Оганес Робертович?
– Так точно, товарищ полковник. – Арутюнов покосился на медсестру.
– Что вы скажете о раненых, Оганес Робертович?
Арутюнов стал зачем-то рассматривать землю. Вздохнул:
– Двое, в общем, терпимы. Ну и третий.
– Двое – вы имеете в виду Потебню и Савчука?
– Так точно. Еще Левашов… Если только успеем и у него не начнется перитонит.
– А командир группы Ларионов?
Арутюнов посмотрел на медсестру, будто она знала что-то о Ларионове, что следовало скрывать и от Гарамова и от Шеленкова.
– Он… выживет?
– Товарищ полковник…
– Александр Ермилович.
– Александр Ермилович. Скажу прямо: я только что его пальпировал. У Ларионова глубокое полостное ранение, необходимо переливание крови. И осколок в шее. Нужно… освободить. Ну а чтобы освободить, нужен стационар. Хороший стационар.
Арутюнов сидел с особым выражением лица, и зрачки у него совсем уплыли под веки. Этим выражением он будто говорил: «Я сделал все, что смог, и прошу не смотреть на меня так и не качать головой. Вы же отлично знаете, что я в ранении Ларионова не виноват».
Полковник, будто уяснив все это, выпрямился.
– Оганес Робертович. И…
Полковник повернулся к медсестре. Та улыбнулась:
– Вика…
Гарамов отметил про себя, что у медсестры приятная улыбка.
– Ну-у! В таком случае, думаю, мы не пропадем. А? – сказал Шеленков. Медсестра сразу засмущалась, покраснела, опустила глаза. – Вика – это ведь значит победа?
Медсестра искоса посмотрела на Арутюнова, будто ища защиты. «Неужели у них… между собой?» – подумал Гарамов. Шеленков расстелил на коленях карту:
– Мы находимся вот здесь, в Лубэе.
Полковник, разыскивая на миллиметровке Лубэй, нагнулся, ткнул карандашом в найденную точку. Карандаш пополз по карте.
– Доставить раненых надо в Приморье. Это около восьмисот километров. Обстановка в небе спокойная, с зенитками у японцев туго. Радаров вообще почти нет, так что, думаю, долетите. Поведет машину опытный пилот капитан Михеев. Второй пилот, хоть и молод… Остальные – штурман, радист, бортмеханик – тоже рекомендуются наилучшим образом. Задача же у вас одна: вы должны следить за состоянием раненых. Сопровождающим в полете будет капитан Гарамов. Если вы с ним еще незнакомы, познакомьтесь.
– Очень приятно. – Арутюнов пожал руку Гарамову. Медсестра улыбнулась. Эта улыбка сейчас была другой, сдержанно-деловой.
Подошел первый пилот Михеев, коренастый, неуклюжий в своем комбинезоне; лицо у него было костистым, покрытым явно преждевременными морщинами, левую щеку портил большой шрам со следами швов. Чуть в стороне стоял второй пилот, без шлема, со спутанными светлыми волосами, по виду совсем мальчишка, чуть ли не из десятого класса. Бортмеханик осматривал бензобак. Двое, по всей видимости радист и штурман, влезли по трапу в самолет. Шеленков встал, за ним и остальные.
– У нас все готово, товарищ полковник. Лететь можно.
Шеленков как-то по-простецки кивнул:
– Ну что, удачи.
Он не спеша, по очереди пожал всем руки: сначала Вике, потом Арутюнову, потом пилотам и напоследок Гарамову. Подходя к трапу, Гарамов вдруг поймал себя на мысли, что ему сейчас очень хочется помочь медсестре ступить на трап. Кажется, то же самое мечтал сделать и Арутюнов.
Перед трапом все трое остановились, и Гарамов сказал, сам не ожидая этого и поддерживая девушку за локоть:
– Вика, прошу!
Медсестра, будто не слыша этих слов, поставила ногу на трап, посмотрела на Арутюнова. Но руку все же подала Гарамову. Он подсадил ее, ощущая мягкую, легкую ладонь и короткое, не допускающее никаких вольностей, благодарное пожатие. Вика исчезла за дверью. Гарамов как можно дружелюбней посмотрел на военврача: «Давайте вы». Капитан легко поднялся, Гарамов в два прыжка взлетел за ним. Через несколько секунд, осмотрев что-то напоследок у крыльев, поднялись пилоты и бортмеханик. Михеев, подняв планшет, чтобы не задеть раненых, прошел в кабину, механик пробрался за ним. Второй пилот, влезший последним, был без головного убора. Он долго задраивал дверь и только после этого натянул шлем, болтающийся за спиной. Покосившись на Гарамова, боком протиснулся вперед. Захлопнулась дверь кабины, и скоро заработали моторы.
Кайма вокруг солнца, опускавшегося в море, была густо-фиолетовой и нестерпимо яркой рядом с холодным зеленым горизонтом. Стук шаров в бильярдной прекратился несколько минут назад. Значит, они должны сейчас выйти. Свет в номере был погашен, но Исидзима – директор специального «Хокуман-отеля» для высших чинов японской армии – стал у окна так, чтобы его в любом случае не было видно. Он наблюдал за выходом. Сначала все было пусто, только на асфальтовой площадке у розария стояла подъехавшая час назад длинная черная машина майора Цутаки. Интересно. Если он угадал, вся акция должна была у них занять минут десять. Остальное – на декорацию. Неужели не угадал? Нет, угадал. Из главного входа в отель, изображающего раковину, неторопливо вышли четыре человека в смокингах. Исидзима сразу же убедился: это те же, кто приехал. Первый, коренастый, с уверенной походкой, – сам майор Цутаки Дзиннай, выпускник императорской школы разведки, бывший руководитель отдела армии по формированию «летучих отрядов». К сожалению, точной должности Цутаки сейчас Исидзима не знает, но по тому, что группа Цутаки наделена чрезвычайными полномочиями и контролирует второй отдел, можно предположить, что он подчинен непосредственно штабу генерала Отодзо. Однако в Дайрене он для всех просто майор Цутаки. Исидзима отметил – Цутаки единственный, на ком вечерний костюм сидит нормально. Даже при беглом взгляде на остальных ясно, что это кадровые офицеры, привыкшие больше прыгать с парашютом, стрелять и брать языка где-нибудь в зарослях, чем носить крахмальные рубашки. Расхлябанный в ходьбе, с болтающимися руками – лейтенант Таяма Каору, по кличке Летун, начинал снайпером в армии. Косолапый увалень – капитан Мацубара Сюнкити, он же Дикобраз, бывший командир знаменитого диверсиями в тылу «Седьмого летучего отряда». Наконец, высокий, поджарый, длиннорукий – телохранитель майора Цутаки лейтенант Тасиро Тансу, признанный всеми специалист по рукопашной. Они приехали, чтобы покончить с руководителем отряда номер 731 – генералом Отимия: война заканчивалась, и, вероятнее всего, группе Цутаки было поручено замести все следы, касающиеся разработки бактериологического оружия. Майор пригласил Отимию в бильярдную, приказав всем разойтись по номерам. Интересно, тело генерала Отимия возьмут с собой или оставят в номере? Ага, вот и тело. Два привратника что-то несут; судя по их походке, это нечто тяжелое. Огромный кожаный чемодан, вполне в стиле Цутаки. Привратники – старый Горо и молодой Масу. Значит, они решили все-таки похоронить Отимию со всеми почестями. Горо – человек Исидзимы, а Масу прибыл недавно по личному назначению генерала Ямадо, значит, фактически – это ставленник Цутаки. Падающий сверху мягкий свет цветных китайских фонариков на секунду скользнул по напряженным лицам Горо и Масу. Вот они вплотную подошли к машине, опустили чемодан в багажник. Тасиро захлопнул крышку. Четверо вместе с Цутаки сели в машину. И когда привратники повернулись, пошли к раковине входа, машина плавно тронулась с места, развернулась у угла здания и исчезла в зарослях.
Теперь из высоких гостей, да и вообще из всех постояльцев, в отеле остались двое: шеф армейской разведки императора Пу И генерал Ниитакэ и патрон Исидзимы генерал Исидо Такэо, заместитель шефа разведки Квантунской секретной службы по агентуре.
Исидзима прислушался. В коридоре и за окнами тихо. Кажется, они действительно уехали, не оставив засады. Впрочем, она им и не нужна. Если Исидзима все правильно понимает, то от директора «Хокуман-отеля» людям Цутаки скрывать нечего. Они конечно же знают, что все шесть его официантов кадровые офицеры японской разведки – четверо японцев и два семеновца. Все с самого начала работают на второй отдел и лично преданы ему, Исидзиме Кэндзи, – уж он позаботился, чтобы всех их купить на корню. Сам он вполне лоялен ко второму отделу. Сейчас, когда вот-вот будет подписана капитуляция, из всех многочисленных забот Исидзимы по заданию второго отдела у него осталась только одна – охранять жизнь генерала Исидо. Но тут есть одна тонкость. Он лоялен к Цутаки, но тем не менее обязан подчиняться только второму отделу, а значит, и второму человеку в отделе – в первую очередь.
Исидзима стоял у окна еще около получаса. Солнце зашло, и полоса пляжа впереди слилась с линией моря, стала невидимой. В саду среди причудливо расположенных камней, в стеблях бамбука и листьях пальм мелькали светлячки, словно далекие фонарики. Исидзима чуть приоткрыл раму, и в комнату тихо вошел запах магнолий. За дверью раздалось знакомое попискивание. Орангутан Сиго. Опять выпустили обезьяну из сада. Да, подумал Исидзима, после того как два дня назад армейское командование сняло с «Хокуман-отеля» официальную охрану, смерть будет часто посещать этот райский уголок. Иначе зачем же в такое трудное время посылать высшие чины сюда на отдых. Значит, забота у секретных служб теперь одна – скрыть все, что только можно. Если он все правильно понимает, то люди в черных смокингах могут прийти завтра за Ниитакэ или Исидо. А потом? Официантов они, конечно, не тронут – мелочь. Девушек? Девушек, наверное, тоже. А впрочем, кто их знает. Что же получается. Очередь за генералами Ниитакэ и Исидо, только кто из них первый? Толстый слюнявый бабник Ниитакэ или его патрон, отрешенный от мирских благ? Скорей всего, Ниитакэ, потому что майор Цутаки понимает, что Исидзима, наделенный полномочиями охраны, так просто Исидо не отдаст. Да и Исидо хитрая лиса. Пока не подписана капитуляция, он будет делать все, чтобы продлить охранные полномочия Исидзимы. Вполне возможно, что директор отеля рано или поздно вынужден будет предать своего шефа. Генерал Исидо – козырь, серьезный козырь. И за его жизнь Исидзима сможет выторговать у Цутаки максимум возможного. А если получится – даже больше; все дело в том, как сложатся события после войны. Впрочем, он уже предполагает, как они могут сложиться. Через неделю, максимум дней через десять сюда придут советские войска. Вернее всего, они передадут занятую территорию НОАК. Гоминьдан будет изгнан. И Исидзима должен успеть уйти до этого времени. Поэтому сейчас-то он и должен выбрать, кто же сможет принести ему большую пользу – Цутаки или Исидо?
Выйдя в коридор, Исидзима почувствовал, как его ласково тронула теплая мохнатая лапа Сиго. Орангутан подпрыгнул, зачмокал, потянулся вверх, вытягивая длинные морщинистые губы. Исидзима отвернулся, погладил обезьяну за ухом.
Исидзима отвел обезьяну вниз, прошел через холл и через заднюю дверь выпустил Сиго в сад. Горо, дремлющий в кресле, открыл глаза. Да, старик еще себя покажет. Старая закалка. Горо чуток, очень чуток.
– Горо, я вам много раз говорил: следите, чтобы Сиго не входил в отель.
Горо поднялся, поклонился, сказал почти беззвучно:
– Чемодан был тяжелым.
Настоящий агент старой секретной службы, ему не нужно ничего объяснять.
– Спасибо. Я отмечу ваше усердие. Что еще?
Горо закрыл глаза, выразив этим почтение.
– Вас спрашивала госпожа Мэй Ин.
– Что вы сказали?
– Сказал, что не знаю, где вы.
– Правильно. Кто дежурит у Исидо-сан? Вацудзи?
– Нет. Хаями и Корнев.
– Да, я забыл. Как только сменятся, пусть подойдут ко мне. Я буду на берегу.
– Будет выполнено, Исидзима-сан. – Горо опустил голову, показывая этим, что все понимает.
– Что Исидо-сан?
– Он спрашивал, где генерал Отимия.
– Зачем?
– Он просил пригласить генерала к нему. Хотел поиграть с ним в покер.
– Что вы ответили?
– Ответил, что не знаю, где генерал Отимия, но поищу.
Интересно, Горо догадывается о чем-то?
– Горо, как вообще… вокруг было тихо?
Старческие складки на шее Горо дернулись. Их поддерживал стоячий воротник расшитого золотом кителя.
– Вы имеете в виду приезжих?
– Горо, я спрашиваю вас вообще: было ли все тихо?
Горо склонился.
– Да, все было тихо, Исидзима-сан. Приезжие играли наверху в бильярд, я сам слышал стук шаров. Потом стук шаров прекратился, и господа офицеры спустились.
Шарами занимался, вернее всего, кто-то один. А остальные трое – генералом.
– Хорошо, Горо. Значит, я на берегу. И помните, что я вам говорил насчет Сиго. Отель пока еще не пуст.
– Хорошо, Исидзима-сан.
Исидзима прошел в сад и вышел к морю. Розы пахли вовсю, забивая даже запах магнолий. Он остановился у причудливо изогнутого островка из высоких, уходящих к окнам кактусов. Если где-то и может остаться человек Цутаки, так он будет сидеть или в бамбуковой роще, или здесь. Однако в двухметровых зарослях кактусов никого не было. Впереди, у линии прибоя, можно было различить солярий и смотровую башню, чуть подальше – причал для катеров. Там тоже никого не было видно. И Исидзима с удовольствием вдохнул аромат моря. Он сегодня перехитрил их всех. Осталось не так уж много дел: перед сном навестить генерала Исидо, поговорить с Корневым и Хаями… И тут он почувствовал, как кто-то осторожно подошел к нему сзади.
Вика сидела закинув голову. Ее загораживал Арутюнов, и Гарамов с трудом мог разглядывать лицо медсестры. Сколько ей было лет в сорок первом, когда началась война? Наверное, что-то около пятнадцати. Ему же в то время было уже двадцать три. Если бы они могли каким-то образом встретиться тогда… Да нет. Как они могли встретиться? Никак. Она, судя по выговору, откуда-то из большого города, скорей всего москвичка или ленинградка. А он? Он – шпана ростовская. Но если она москвичка, то в принципе они могли и встретиться: он ведь учился там в цирковом техникуме. И Сергей невольно начал вспоминать, как он попал туда.
Как-то летом, когда Гарамову было двенадцать и он, как обычно, прыгал в Дон с такими же сорвиголовами с главного городского моста, к нему подошел человек в спортивном костюме. Он зачем-то пощупал его плечи, шею и дал записанный на бумажке адрес.
– Зайдешь, дело есть.
«Делом» оказалась секция по прыжкам в воду. И Гарамов стал заниматься. Прыгать ему нравилось. Дома об этом никому не говорил, потому что отлично знал, как воспримет отец весть о его новом увлечении. Но родитель все-таки узнал и устроил один из самых больших скандалов. Сухой, сутулый, с нависшими, мохнатыми бровями и большим носом, в котором Сергею всегда чудилось что-то волчье, отец в самом деле напоминал того доброго волка, который только прикидывается злым. Гарамов-старший ходил по комнате и раздраженно накачивал сына, повторяя в общем одно и то же:
– Нет, вы посмотрите, кем же он будет – Сергей Гарамов! Сергей Александрович Гарамов! Он, видите ли, будет прыгуном в воду! Чертовщина! Может быть, ты передумаешь и станешь прыгуном через скакалку? А? Как тебе это нравится? Не смотри в пол! Смотри мне в глаза! Нет, ты понимаешь, наконец, что это не мужское занятие? Но я уж об этом не говорю! Я молчу! Бог с ним – не мужское! Но пойми, пойми ты своим куриным умом, что это не занятие для думающего, интеллигентного человека! Для настоящего человека, человека высокой культуры! Именно таким, я надеюсь, ты обязан стать! Не смотри в пол! Смотри мне в глаза! Нет, это только себе представить – прыжки в воду! Я тебе приказываю: немедленно прекратить эти идиотские прыжки! Слышишь? Немедленно! Сергей! Ну? Отвечай, Сережа, ты должен понимать, что у тебя плохо с точными науками! Дай мне слово, что ты немедленно перестанешь заниматься этими идиотскими прыжками! Слышишь, Сергей? Нет, он определенно оглох! Подними глаза!
Гарамов хотя и пробурчал: «Не подниму», но прыжками в воду все-таки действительно скоро перестал заниматься и перешел на гимнастику и акробатику. В пятнадцать лет у него уже был первый разряд, в шестнадцать он стал мастером спорта. К тому времени Гарамов уже не раз бывал в цирке, а после присвоения ему первого спортивного разряда по гимнастике понял: что бы с ним ни случилось, он будет работать цирковым артистом, а после десятого класса уедет в Москву поступать в цирковой техникум. Он мог, конечно, попытаться уехать и после седьмого, но знал, что это нереально – отец не отпустит. Поэтому в восьмом, девятом и десятом классах Гарамов, зная, что всю программу придется повторять в техникуме, практически не учился всерьез, а отсиживался. С одной стороны, он, как мастер спорта по гимнастике, был гордостью школы, с другой – фамилию Гарамова склоняли так и этак на всех собраниях. Его несколько раз исключали из школы за различные выходки, но в конце концов благодаря хлопотам отца – старого профессора – восстанавливали.
Потом была Москва, цирковой техникум, куда Гарамов поступил, пройдя все три тура. Через два месяца сам придумал номер с ножами и начал тренироваться, вгоняя их в доску вокруг нарисованного человека. Партнершей согласилась быть его бывшая соученица по курсу Таня Ливанова.
Так случилось, что, выпустившись, они каждый вечер под туш, в костюмах «Американа», выходили вдвоем на манеж, делали несколько танцевальных па и расходились под стихающую музыку в разные стороны. Таня становилась спиной к доске, оркестр умолкал, и Гарамов один за другим всаживал в доску вокруг головы и плеч Тани двадцать ножей – последний точно над макушкой. Номер нравился, шел на ура. За год выступлений они не то что ни разу не уходили с манежа «под стук собственных копыт», а неизменно выбегали на три-четыре повторных комплимента.
Гарамов любил цирк. Он любил его безотчетно. Любил приходить на утренние репетиции. Любил запах опилок и зверинца. Любил тишину, которая повисала в цирке, когда он брал первый нож. Сергей знал, что тишина и напряженность, повисающие в цирке во время их номера, все время разные, меняются, каждая имеет свой тембр и даже – цвет. После пятого вонзившегося ножа она уже другая. Совсем другая после десятого. И отличная от всех, не похожая ни на что – после того, как он берет последний, двадцатый нож и, прицеливаясь, медленно и настороженно вытягивает руку вперед.
Перед самой войной умер отец. В телеграмме, которую ему прислала сестра, было сказано коротко: «сердечный приступ». Вскоре после отца умерла мама. Потом началась война.
* * *
– Простите меня, Исидзима-сан. Если только можете, простите.
Исидзима усилием воли заставил себя не отступить назад. Мэй Ин, стоявшая перед ним на песке в фиолетовом кимоно с узором в стиле дзёмон и красном оби, могла бы понять это как знак отвращения. Но ведь отвращения к ней в нем нет, просто сейчас связь с Мэй Ин ему ни в коем случае не нужна. Оглядывая и оценивая ее легкую фигуру, взгляд, движение ресниц, он вынужден был признать: это действительно одна из лучших девушек «Хокуман-отеля». Она хороша тем, что необычна. В ее лице живет, постоянно и неуловимо возникая, то, что так нравится мужчинам: смесь независимости, слабости, нежности и силы. Лицо ее явно относится к южному, китайскому типу, и он, знаток японских лиц, хорошо это видит. Видит и то, как в резко очерченной линии маленькой верхней губы, в чуть выпуклых азиатских глазах Мэй Ин всегда прячется вызов обычной островной сдержанности, которую принесли много веков назад на острова ее предки. Пусть воспитание сделало свое, пусть все ее движения, мимика, любое выражение чувств, даже досада, горесть и смертельное отчаяние всегда будут упорядочены, а не отданы на откуп хаосу, но этот бросающий вызов всему миру взгляд, эти отчаянно-нежные глаза и губы останутся. Останутся, несмотря ни на что. И этим ее лицо прекрасно.
– Мэй Ин. Я ведь просил тебя.
Она опустила глаза, разглядывая песок и лениво подползавшую к их ногам волну. Все девушки «Хокуман-отеля», независимо от того, были ли они китаянками или русскими, носили звучные китайские имена. Настоящее имя Мэй Ин, уроженки Киото, было Хигути Акико, но здесь никто так ее не звал.
– Мэй Ин. Девочка. Пойми, у меня сейчас много дел. Очень много. Ты ведь понимаешь?
– Понимаю, господин.
Вдруг он увидел: она плачет. Мэй Ин давилась слезами, отвернувшись и закусив нижнюю губу. Ну да, этим и должно было все кончиться. Виноват он сам, только он, и больше никто. Не нужно было доводить до всего этого. А что нужно было? Ну хотя бы, как только все началось, как только он понял, что выделяет Мэй Ин из остальных, сразу же надо было перевести ее в Дайрен. С лучшими рекомендациями, конечно.
– Ну, Мэй Ин? Что ты?
Он попытался успокоить ее, погладить по плечу, но она замотала головой, продолжая плакать. «А я ведь тупица, – подумал Исидзима. – Влюбил в себя девчонку и сам теперь не знаю, что делать. Ай-ай-ай!» Правда, она много раз ему помогала, но, в конце концов, можно было обойтись и без этого.
– Мэй Ин! – Исидзима постарался вложить в голос строгость: – Мэй Ин!
– Простите, Исидзима-сан.
Судорожным глотком она подавила очередной всхлип, достала из-за пояса надушенный батистовый платок. Не разворачивая, осторожно промокнула щеку, а затем задрала голову вверх и, облизывая губы, сказала не глядя:
– Простите, Исидзима-сан. Просто я очень хотела вас видеть. Вот и все. Я сейчас уйду.
– Девочка, ты ведь чуть-чуть мешаешь мне, понимаешь?
– Я все понимаю и больше не буду. Простите, Исидзима-сан.
– Мы ведь живем бок о бок. И непременно увидимся. Ну, девочка?
– Я понимаю, Исидзима-сан. Мне все время кажется, что вы исчезнете. Уйдете, растворитесь куда-то.
Как женщина, она все чувствовала, Исидзима понимал это, но все же сказал:
– Смешно. Я привязан к этому месту. Просто цепями прикован. Куда я уйду?
– Не знаю. Куда-то уйдете, и я вас больше не увижу.
Неподалеку вдруг что-то промелькнуло. Кажется, пришли Хаями и Корнев. Да, так и есть – он видит их силуэты за солярием.
– Ну что ты, девочка. Улыбнись. Ты ведь видишь – я здесь, со мной все в порядке.
– С вами все в порядке, – склонив голову, повторила она, приложив руки к груди. Улыбнулась. – С вами все в порядке, и я рада.
Легко повернулась. Некоторое время он видел, как она шла по песку. Потом Мэй Ин скрыли кусты магнолии. Исидзима вдруг подумал: «А ведь если он будет уходить с кем-то из двоих, с Цутаки или Исидо, ему имеет прямой смысл взять с собой и Мэй Ин. Да. Но пока не нужно говорить ей об этом». Он подошел к солярию, сказал, обращаясь к казавшимся теням у стены:
– Ну что?
– Все в порядке, Исидзима-сан. – Хаями Ре, маленький, коренастый и лопоухий хонсиец, выступил из темноты. – Сейчас дежурят Вацудзи и Наоки.
– Что приезжие? Они уехали спокойно?
Хаями посмотрел на поджарого, такого же маленького, как он, Корнева-крепыша. Тот усмехнулся.
– Не знаю, спокойно ли они уехали, – сказал Корнев. – Но генерала они увезли с собой.
Значит, Хаями и Корнев все поняли.
– Вы что, видели это?
– Не видели, – сказал Корнев. – Но Цутаки-то мы знаем.
Некоторое время все трое молчали, прислушиваясь к шуму волн.
– Они его прикончили в оранжерее, – сказал Хаями. – Я слышал, как генерал прошел туда с Масу. А потом оттуда же Масу и Горо проволокли чемодан.
Ну что ж. Хаями молодец. Наверное, непосредственным исполнителем был или сам Цутаки, или его телохранитель Тасиро Тансу.
– А генерал Исидо? Он что-нибудь слышал?
– Не слышал, но понял. Он искал генерала Отимия, а потом, когда Горо его так и не нашел, наверное, увидел Цутаки с его людьми. Он выходил гулять по коридору. Тут у него нервы и не выдержали. Он сразу вернулся в номер. И потом несколько раз спрашивал из-за двери, здесь ли мы. И ужинать не выходил – попросил принести в номер, я сам и ходил. Повар приготовил сегодня любимое блюдо генерала.
– Хорошо, Хаями. Отмечаю вашу наблюдательность.
– Рад стараться, господин директор.
Кажется, пора идти к генералу. Исидо наверняка его ждет.
– Чем сейчас занимается Исидо-сан?
– Думаю, что ждет вас.
– Хорошо. Будьте наготове. От Цутаки можно ждать удара в любую минуту. Побудьте пока здесь, я пойду к генералу. Долго не стойте, минут двадцать – и идите спать.
Хаями и Корнев поклонились.
Сидя на подрагивающей скамейке под иллюминатором, Гарамов продолжал следить за Викой, размышляя о собственной судьбе. Как только началась война, его направили в действующую армию. Четыре года, до самого мая сорок пятого, он служил в разведроте, мерз в засадах, чавкал сапогами по болотам, добывал языка за линией фронта. Прошел с боями всю Белоруссию. Потом была Польша и, что самое трудное, Германия. Ловил парашютистов, ползал по лесам, выявляя диверсантов и различные группы «мстителей». Потом для всех было 9 Мая. Но для него, для разведчика, война не кончилась: в числе отобранных его перебросили на Дальний Восток, и вот сейчас он сопровождает раненых.