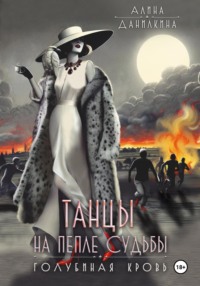Czytaj książkę: «Танцы на пепле судьбы»
Книга посвящается моим любимым бабушкам и дедушкам, которых я всегда буду помнить:
ушедшим Болотовой Любови Николаевне,
Данилкину Александру Петровичу,
Болотову Николаю Ивановичу
и ныне живущей Данилкиной Елене Борисовне.
Автор книги (Данилкина Алина Сергеевна) не разделяет политических и других взглядов ни одного из персонажей романа «Танцы на пепле судьбы. Голубиная кровь». Автор романа с уважением относится ко всем государствам, нациям, странам, культурам и религиям и выступает за мир во всем мире. Ни одна цитата из книги «Танцы на пепле судьбы. Голубиная кровь» не навязывает читателю точку зрения, лишь являясь выдумкой автора.
Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир.
В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!
Евангелие от Иоанна 16:33
Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И – мною ли оживлено —
Переливается оно
Безостановочной волною —
Веретено.
Все одинаково темно;
Все в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано —
Веретено.
Осип Мандельштам
Судьбу надо выжигать, а на пепле ее изящно танцевать, следуя движениям своей души.
«Лед одинокой пустыни», Алина Данилкина
Глава 1
Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė Rusijos pilietę Taisiją Meisanę laisvės atėmimu iki gyvos galvos, taip pat konfiskavo jos visą turtą. Teismo sprendimu, Taisija Meisanė yra kalta dėl nužudymo Lietuvos valstybės tarnautojo, Gustavo Petersono1.
«Закройте глаза. Расслабьтесь. Медленно думайте об Испании. Что вы чувствуете?
Страсть и нежность? Борьбу и невозможность разъединения? Обволакивающее облако чуть шипящего “с”? Только женщина может вызывать такую бурю эмоций, не так ли?
Испания – это женщина. Настоящая женщина, которая сводит с ума и бесцеремонно отворяет дверь в твои унылые однотонные сны. “Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка…” Вы помните?
Вы все, конечно, помните… Такую женщину не забывают, даже если видели ее всего один раз. Мадрид, Барселона, Валенсия, Тенерифе. Пока я встречала ее только в этих четырех амплуа, но при каждом столкновении она меняла свое лицо, повадки и запах. В Мадриде – достопочтенная аристократка, величественная, строгая и одухотворенная. В Барселоне – неприступная, необузданная, но такая гостеприимная, требующая иллюзорной независимости и несуществующей справедливости. В Валенсии робкая, убаюкивающая и добродушная. Вольная на Канарах, легкомысленная и невесомая. Слышали песню “Libre como el viento”, “свободная как ветер”? Это все про тебя, Испания.
Тебя боюсь я. Страшно и странно быть живым, чувствуя при этом, что ты в раю на земле, в нескольких метрах над уровнем неба…
Утро. Шум на Рамбле. Первые мурашки от испанского бриза. Свежие устрицы и звук вылетающей дубовой пробки из бутылочки розе “Moet & Chandon”. Рынок, слияние запахов вяленого хамона и мускатной дыни. Я люблю тебя за то, что с тобой я никуда не спешу. Испания. Siesta. Ретардация. Спать с тобой в унисон под пальмами и внимать извне самый эротичный “голос” мира. Твой язык – как магнит, как желание, которое невозможно заблокировать. Я хочу слышать твой голос… Всегда и везде.
Эта женщина жаждет крови. И неважно, быка ли, тореадора или только приезжего туриста, горький сок сердца которого она выпивает при первом же знакомстве. У этой женщины есть король. Выходит, она королева?
Женщина-опасность. Любит погорячее. Водные лыжи, виндсерфинг, ночные клубы, азарт. Втянет в любую авантюру, а затем без сожаления выбросит в открытое море, язвительно ухмыльнувшись. Она любит танцевать до утра и пить ежевичную сангрию, вольно срывая с тебя грусть, агонию, тлен принципов и обязательств. Женщина-головоломка, муза, почти идеал. Она вдохновляла Веласкеса, Мачадо, Гауди и Сервантеса. Но ей всего мало. Испания ненасытна. Она рождает таланты. Испания – это стих. Это красивее, чем проза жизни. Красивее, чем проза. Красивее, чем жизнь…»
– Что ты так усердно записываешь в своем блокноте? – спросил меня отец, продолжая обжигать шершавое небо горячим ристретто.
– Мысли об Испании. Так не хочу завтра возвращаться домой, поэтому желаю остаться в этой стране хоть на бумаге…
– Таисия, тебе скоро сдавать вступительные в университет. Завязывай со своими мечтами о писательстве. Ты будешь серьезным журналистом-международником, а не умершим от передоза писателем без зарплаты и кресла в офисе. Мы так решили на семейном совете. Не расстраивай меня.
– Да, наверное, вы были правы. Я грущу не поэтому…
– Тогда в чем причина? Если ты меня обманываешь, я готов пойти против всех. Даже не поедем на собеседование, а в следующем году поступишь в Литературный, я тебя поддержу. Поддержу тебя всегда, дочь, – ласково улыбнувшись, сказал отец.
– Я боюсь, что университет не станет для меня родным, как лицей. Лицей – больше, чем просто школа. Это мой дом, в котором вместо столовой и тушеной капусты с горохом – французское кафе с лавандовыми эклерами и шоколадным фонданом. Дом, в котором вместо писклявого звонка, беспрестанно колотящего по перепонке, занятия начинаются и завершаются одним из времен года Вивальди. Дом, в котором преподают профессора университетов, доктора наук, а не тираничные авторитарные тетки, верящие в свою вседозволенность и власть над детьми.
– Дом – это дорогие сердцу воспоминания, которые всегда можно забрать с собой. Значит, твой дом будет с тобой повсюду. Весь крутящийся вокруг солнца шарик – твой дом, – расправив мои ресницы, с улыбкой произнес папа.
Я захлопнула свой потертый блокнот, заслонила набухающие от растормошенного испанского солнца бирюзовые глаза треснутыми запотевшими очками и предложила отцу провести крайний предотлетный день в Барселоне темпераментно и сумасбродно. Однако папа, как всегда, настоял на своем плане, которому я, зарыв в себе юношеский кураж, безбунтующе поддалась.
Мы отправились на рынок Бокерия, чтобы с жадностью проглотить свежие устрицы, которые семидесятилетний Карлос открывал металлической зубочисткой, щедро заливая трепещущую слизь зеленым табаско с мякотью халапеньо, после чего присели в рыбную лавку и перечитали список продуктов, присланный моей тетей Диной, которая недавно от затянувшейся меланхоличной хандры решила перейти на правильное, хоть и экзотическое питание.
Папа с братской нежностью презирал родную сестру, забросившую медицинский университет ради богатенького деспотичного мужа, бесформенной дульки, заколотой бамбуковой палочкой для суши, и кулуарных сплетен, которые стали для нее благоговейным утешением в статусе отчаянной домохозяйки. Несмотря на злоречивые упреки, которыми изредка жонглировал отец, он продолжал любить и принимать Дину со всем ее слегка подгнившим и выдохшимся естеством. Он щедро потакал всем прихотям тети, напитываясь при этом мимолетным удовлетворением затухающего эго мужчины за сорок пять.
Ради Диночки мы приобрели на углу Passeig de Gràcia нейлоновый чемодан с велюровыми вставками и поехали на Бокерию, чтобы наполнить его продуктами до хруста спиральной молнии и помятости выверенных швов ворсистой тесьмы.
Пройдя от овощного прилавка, за которыми торговали два коста-риканских брата-близнеца с горбатыми крючкообразными носами, мы купили для тети спелые афинские абрикосы для нормализации работы кишечника ее парализованного свекра, тюрбо из местной рыбной фермы для восполнения витаминов группы В, японскую мушмулу, насыщенную бета-кератином для экстренного воскрешения ломких волос, серые ракообразные «десятиногие» креветки для званых ужинов с брюзгливыми и великовозрастными партнерами ее супруга, морского черта, которого она символично дарила на религиозный праздник своей верующей золовке, иберийский хамон для фальшивых членов еврейской синагоги и омара, пойманного, по словам продавщицы Перлиты, в Атлантическом океане между Норвегией и Марокко.
Но этим тетя Дина не ограничилась, уговорив нас привезти ей алый рамбутан, похожий на волосатый подбородок нашей столетней соседки по даче Вилены Владимировны, коричневый салак, чешуйчатую аннону, рогатую дыню, несколько видов сухофруктов, звездчатый анис, помидоры из Наварры с замявшимися будто послеродовыми складочками, связку острого перца гуиндилья, копченые сардины, масло для салата из чеснока и орегано, палестинские оливы и мансанильи, традиционный каталонский белый лук кальсот, грибы ровеллоны с широкими шляпками, как у приезжей на лазурное море одесситки, вареную колбасу мортаделла с фисташками и какао-бобы в темном шоколаде. Мы нашли каждый ингредиент из списка Диночки на магическом, словно выдуманном рынке Бокерия, где, казалось, есть все: начиная от свежевыжатого сока из киви и заканчивая десятками разновидностями сладкой, тающей во рту и руках пастилы.
Моей маме не хватало тетиной наглости, поэтому она никогда ничего не просила, ссылаясь на истоптанную трафаретную фразу «у меня все есть». Но всякий раз, вручая ей после поездки то незамысловатый магнитик на холодильник с изображением Тадж-Махала, то бусики из мелких ракушек, она радовалась, как семилетнее дитя, в то время, как тетя оставалась возмущена помятостью привезенной кутюрной туники или чуть потекшим маслом ши для ее заросшей кутикулы. Дина была вечно всем недовольна: то муж не в то место поставит хрустальную вазу для цветов, которые, по правде говоря, он ей никогда не дарил, то домработница неласково стирает ее купальники, то дедушка дарит ей машину с не подходящим к цвету ее кожи салоном, то папа, несмотря на хроническую усталость безработной сестры, отправит ее за год на курорт всего лишь каких-то восемь раз.
Дина упорно кроила себе амплуа заботливой сестры, дочери и жены, маниакально стараясь убедить всех в том, что ее упадническое настроение связано с тем, как сильно может измаяться разнузданная апатичная домохозяйка. Мне претили регулярные воскресные встречи с ней, так как ее выпуклая озлобленность медленно затопляла все пространство вокруг. Тетя жаловалась на депрессивных людей, искренне не замечая испускаемого ею быстродействующего яда, осуждала невежество, манерность и напыщенную загадочность жен приятелей мужа, дерзя официанту и путая картины Брюллова и Бенуа. Она оценивала наряды великосветских подруг, совершенно не стесняясь прийти в коротком мини на прием губернатора, и упрекала всех то в испортившейся погоде, то в зашкаливающем у нее давлении. Дина выделялась из семьи, и иногда мне даже казалось, что ее когда-то удочерили, ведь она была совершенно не похожа на свою мать, мою бабушку Олимпиаду.
Бабушка Липа была одним из лучших и авторитетных врачей-фтизиатров в городе. По субботам она играла с подругами в гольф, запивая и победу, и проигрыш лишь одним выдержанным коньяком с нотами сливочной карамели, степного сена и влаголюбивой лакрицы, а по воскресеньям посвящала себя огороду, ухаживала за теплицами и домашним скотом, после чего посещала с дедушкой местную филармонию, одеваясь и преподнося себя как всесокрушающая атаманша южных сердец. Она никогда не поддавалась слабовольным истерикам, никогда не унывала, не впадала в бездонную тоску и не опускалась до непристойных сплетен, тратя свое время исключительно на то, что было дорого ее душе. Впрочем, последним и, наверное, единственным бабушка была весьма схожа с мамой, которая никогда не позволяла мне злословить, осуждая чьи-либо недостатки поведения или внешности.
После Бокерии мы с отцом неспешно вышли на многолюдную пешеходную улицу Рамбла, на которой было много не только туристов, но и так называемых человеческих статуй, замирающих мимов, умело притворяющихся застывшими каменными фигурами. Когда остолбеневшие тролли, кентавры, графини в пышных платьях, позолоченные искрящимися блестками женщины-птицы оживали, мне казалось, что я законсервирована в сказке, из которой никому и никогда не захотелось бы вылезти.
В Порт-Олимпике мы с отцом присели на скамейку, приклеив взгляды к парусным яхтам, вокруг которых под шуршание пальм безмятежно предавались танцам чайки, разрешая даже некоторым понравившимся прохожим погладить их или сфотографировать. Они были улыбчивы, свободны и бестревожны, словно олицетворяли испанцев и ее саму.
Без брони нам достался круглый столик в недавно открывшемся ресторане, который славился редкими семнадцатью блюдами семнадцати автономных сообществ страны.
Сначала я заказала нежнейший тушеный андалусийский бычий хвост с шафраном, после чего незамедлительно перешла к миноге из устья реки Миньо, вкус которой мне пришлось перебивать улитками по-кастильски с розовым розмарином. Папа опробовал жареное свиное ухо на гриле с чесночком и укропом и черепа молодых ягнят в белом вине и, не насытившись, попросил фирменное блюдо шеф-повара из Сеговии – нежнейшего молочного поросенка, разделанного на глазах посетителей глиняными тарелками. Расплывшийся в улыбке после обеда с дочерью папа заказал два бокала красного вина сорта гарнача, которые мы, к слову, слишком молниеносно испили.
Признаться, отец частенько позволял мне выпивать вместе с ним, и, нужно сказать, это ему не запрещал ни один из членов соединенных врачебных династий нашей семьи: ни моя мама-нейрохирург, ни дедушка, который занимал должность главного онколога в папином медицинском центре, ни мамина родная сестра-кардиолог, пропавшая без вести при неизвестных обстоятельствах три года назад, ни ее мама, моя любимая бабушка Федора, проработавшая почти сорок лет жизни сельским фельдшером.
Вся моя семья за исключением тети Дины, пристрастившейся к алкоголю после позорного ухода из ординатуры, обожала пригубить бокальчик тихого или игристого на отдыхе, в ресторане или за шумным праздничным столом. И, наверное, потому что мне никто никогда не запрещал притрагиваться к веселящим искоркам брюта, я никогда тайком не пила дешевое или поддельное спиртное с одноклассниками в подъездах. Я относилась к вину, пиву и даже джину как к белому вздувшемуся батону, который можно было купить в любой момент у пекаря Гагика из армянского переулка возле бабушкиного дома.
Под конец вечера после десерта с потрескивающей карамельной корочкой к нашему столику, стоявшему в ресторане возле причала, подошли испанские музыканты и танцовщицы фламенко. Под звуки одинокой скрипки женские туфельки били в такт, пленяя и мужчин, и женщин безукоризненной грацией и вольнолюбивыми взмахами. Уставшие после экскурсий по местам Гауди мужья наконец смогли отщипнуться от зудящих, как кожа от при острой крапивнице, жен, очаровываясь чувственностью движений и манкостью взглядов урожденных испанок. Но мой отец вновь оказался не из таких. Исполнение фламенко не наскучило бы ему, лишь если бы на сцене размахивала извилистой юбкой разведенная с ним мама. Вспомнив, что его вожделению о чувственном танце бывшей жены не суждено быть реальностью, отец рассчитался и повел меня в лобби отеля, где мы продолжил завязавшийся в Порт-Олимпике диалог.
– Как дядя Петя? Я очень соскучилась по нему. Мы не виделись больше двух лет после начала конфликта, – спросила внезапно я.
– Дядя Петя передавал тебе позавчера поздравления с успешной сдачей экзаменов. У него там по-прежнему мрачно: как прилетим, обязательно навещу его, но без тебя. Сколько у нас с ним воспоминаний… Как Петька на патанатомии в морге заснул и поковырялся в ухе пальцем трупа.
– Вы всегда были с ним так дружны?
– Нет. На первом курсе мединститута мы воевали за симпатию твоей мамы. Она была необычайно светла и так же необычайно гениальна. Я знал, что она будет негасимой звездой в медицине. Тем более она писала за меня конспекты и даже иногда заполняла истории болезни…
– Я думала, дядя Петя был всегда влюблен в тетю Надю. Они же жили душа в душу до ее исчезновения в Египте.
– Надежда и твоя мама Вера, если ты помнишь, единоутробные близнецы. В нашу юность их было не отличить. Дядя Петя влюбился в Надю, когда та красила свои губы красной помадой на его «Волге». Он попросил ее отойти от машины, но та из вредности нарисовала алым цветом на его стекле одно нецензурное обзывательство. Петька запал, ошибочно приняв Надю за мою скромную и застенчивую Веру… Вот и дрался со мной за сердце той, которую даже не знал…
– Твоя? Позволь напомнить, что вы с мамой давно расстались, а сейчас находитесь на пике эскалации послеразводного конфликта. И когда же это закончится? Мне уже надоело быть испорченным телефоном и чувствовать себя кочевником. Где это видано: с понедельника по четверг жить с мамой, а оставшиеся три дня с папой?
– Я не выношу твою мать и даже с ней больше за стол не сяду. Тебе разве плохо? Мы с тобой ходим в кино и кафе, часто улетаем на выходные в Париж или Лондон. На неделе ты вдоволь общаешься или даже ссоришься с мамой. Да и сейчас переедешь в Москву и отдохнешь от нас.
Спустя пару секунд я перевела тему нашего разговора, поняв, что отец, как и мама, воспитанные в полных счастливых семьях, никогда не поймут риторику моих созревающих уже четвертый год вопросов. С момента их развода папа с мамой будто перетягивали меня, как абордажный канат, неустанно борясь за мою любовь и внимание. Строгий начальник, которого боялись все подчиненные, превращался со мной в маму, водя меня то к зубному, то к ортопеду, то в театр кукол.
Пока на родительских собраниях сердитые и неудовлетворенные мамашки затрагивали нескладные темы, отводя внимание от своих отсталых прозябающих отпрысков, мой папа был единственным отцом, знавшим не только всех учителей и школьную программу, но и все о своем ребенке: страхи, желания, любимые блюда, фильмы и даже город мечты. Мама же, напротив, никогда не обращала внимание на обложки книг, которые я читаю, беспрестанно добавляла в салаты базилик, который я не переношу, и продолжала громко разговаривать по телефону, совершенно не догадываясь о моей растущей привязанности к тишине. Однако, несмотря на это, она всегда казалась мне необычайной женщиной: первоклассный и филигранный нейрохирург, диктатор изысканного стиля, не ведающая границ путешественница, занимающаяся серфингом в Эквадоре и тайцзи в Китае, образцовая хозяйка, натирающая серебряные вилки до блеска уксусом, и творческая личность, вырезающая из дерева иконы святых.
Мама всегда была премного самодостаточной: она прилично зарабатывала на чужих мозгах своим мозгом, сама прибивала картины, которые сама же рисовала после проведенных операций, сама обеспечивала своих родителей, врачей из деревни, получающих гроши за большие спасения, сама ухаживала за своей внешностью самодельными сыворотками для лица, оставаясь при этом самим совершенством, и сама стояла за себя, лишь колкой любезностью размельчая в пыль вздувшееся себялюбие оппонента. Она была не из тех разведенок, мечтающих выскочить напоследок замуж хоть за кого-то; мама не нуждалась в мужчине, потому что уважала внутреннюю свободу и свой образ жизни. Вера Виноходова могла проехать весь центр города на велосипеде в гололед, не замечая грубые потоки степного ветра, могла на выходные отправиться в Санкт-Петербург на премьеру «Травиаты» в Мариинский театр, могла созвать своих подруг на игру в покер ночью в понедельник и могла неспешно ходить в летних балетках в Неаполе на Новый год.
Папа был более предсказуем и консервативен во всем: его внутренняя сдержанность граничила с утомляющем самокопанием, а традиционность взглядов лишь сужала горизонты иллюзорной свободы, которой мог владеть состоявшийся мужчина за сорок пять. Его боялись конкуренты, силовики, подчиненные, потому что он агрессивно и настойчиво вел все дела. Дома он дорожил своими родителями, не скрывая от общества свое чахлое бормотание перед матерью и безоговорочное сопряжение с позициями своего отца. Папа праздновал все семейные торжества с престарелыми родителями, а не с миловидной сожительницей, которую напрочь отказывались принимать дома бабушка и дедушка, всем сердцем любившие лишь мою мать. Никто никогда не навязывал ему угнетающее чувство вины, однако папа ошибочно считал себя недостойным сыном, так ни разу за всю жизнь и не огорчив хоть кого-то из своих многочисленных родственников.
Однажды отец отменил поездку в Марракеш только лишь, потому что у бабушки слегка поднялся уровень сахара в крови, спустя два года он не пришел на свой же юбилей, когда дед упал в обморок после недолгой размолвки с главным анестезиологом центра. А в самолете, когда мы возвращались из Барселоны в Ростов, папа по свойственной ему привычке расписывал задания для заведующих отделений своих больниц и придумывал идею подарка бабушке за четыре месяца до ее дня рождения и много грустил, так как знал, что проведенные совместно три недели в Испании еще больше укоренили его нежелание делить меня с мамой. Папа мечтал жить со мной, но знал, что мама так же сильно нуждается в моем присутствии, как и я в ее. Это же была мама…