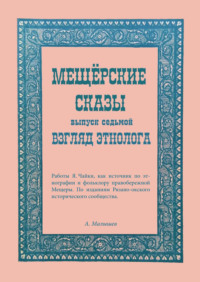Czytaj książkę: «Мещёрские сказы. Взгляд этнолога», strona 2
Ордынское нашествие, так катастрофически отразившееся на экономике и численности населения рязанских земель16, видимо, не сильно затронуло мордовское население края. Местная мордва была скорее союзником и вассалом ордынцев, и какая-то часть рязанских мещерских земель входила в состав золотоордынских улуса Мохши и Мещерского улуса. Только с ослаблением и распадом Золотой Орды мещерские мордвины принимают сторону русских князей. Об этом сообщает летопись, в которой говорится об участии мордвы в разгроме войска царевича Мустафы, вторгшегося в рязанские пределы в 1444 г.17
Новый этап существования мещерских финно-угров настал с присоединением рязанских земель и Мещеры к Московскому государству. В XV–XVII вв. археологи фиксируют серьёзное увеличение, в сравнении с домонгольским временем, числа русских поселений в Мещере, в бассейнах Цны и Мокши, не только около рек, но и на водоразделах, что говорит о сельскохозяйственном освоении земель, в том числе и занятых до этого мордвой18. Это заселение отразилось в легендах, записанных Я. Чайкой.
«Много лет тому назад на месте Шилово росли большие дубовые леса. Русского люда здесь не было. Ходили только охотники. На месте Борка жила мордва с князем. Однажды пришли сюда три брата-охотника русских, заплутались и вышли к мордовскому посёлку. Мордва их встретила приветливо. Стали братья жить, да на беду младшему полюбилась дочь мордовского князя. Той тоже полюбился русский охотник, но отец и слышать не хотел об их свадьбе. И тогда братья, захватив княжну, убежали. Бегство обнаружилось быстро. Князь послал лучших своих воинов вслед за беглецами, их настигли на поляне, там, где сейчас улица Рязанская. Изрубили братьев мечами, а княжну увезли к отцу». Дальше по ходу легенды младший брат спасся, построил на месте будущего Шилова церковь, к которой стали подселяться русские люди19.
Из легенды видно, что местные мордовские феодалы неохотно расставались со своей независимостью, однако выгоды присоединения к набиравшему мощь централизованному государству были очевидны, и всё большее их число переходило под руку московского царя, вливаясь в феодальное сословие нового государства.
Кроме того, мордовских воинов привлекали к охране засечных рубежей Русского государства20. Дело в том, что в XVI – начале XVII вв. рязанские земли правобережья Средней Оки наиболее интенсивно подвергались набегам кочевников, которые превратили существование жителей края в постоянную перманентную войну, пронизывавшую жизнь и быт населения21. Эта война отразилась в местных преданиях, в которых кочевники-степняки всегда предстают самыми злейшими врагами.
В этот же период началось и активное смешение беглых и переведённых в правобережную Мещеру крестьян и служилых людей Московского царства с местными финно-уграми. Как указывалось выше, переселение сопровождалось и вытеснением мордвы с коренных её земель.
Это смешение представляло собой растянутый во времени процесс, и среди местного населения память о «жившей здесь когда-то мордве» достаточно свежа. Можно допустить наличие здесь мордовских этнических анклавов ещё в конце XIX – начале XX вв. Обособившиеся в этнографическом отношении мордовские племена Мещеры именовались мещеряками, при этом исследователи отмечали, что, например, мокшане Краснослободского и Чембарского уездов Пензенской губернии также называли себя мещеряками22.
О мещеряках как об этносе писали ещё и в начале XX в., отмечая их сильное обрусение и «отатаривание». Обрусевшие мещеряки, особенно в Рязанской губернии, в Спасском уезде, «утратили всё (язык и обычаи – авт.), а только называют себя мещеряками»23. А отатарившиеся мещеряки «ещё более отатарились, чем русские (мещеряки – авт.) обрусели»24. Очевидно, из-за этого в Советской России, где каждый народ получил право на самоопределение, мещерякам как национальности места не нашлось, и их всех записали в «русских» или «татар», впрочем, всё вышесказанное больше применительно к жителям Мещеры левобережной.
Что же касается потомков финно-угров Мещеры правобережной, то их мордвой или мещеряками в XX в. называли уже только в бытовом обиходе. Всех жителей Рязанской губернии, а потом области уверенно записывали «русскими», не вдаваясь в подробности этногенеза. Однако сами местные жители хорошо помнили своё происхождение, что сохранилось в народных преданиях.
Вот как об этом сказано у Я. Чайки: «Всех людей баба Зина делила на цупрянов и ягутошек… Цупряны – это потомки тех, кто жил здесь тысячу лет назад, их ещё мещеряками звали… “До недавнего времени у цупрянов сохранялся свой особый язык, не похожий на русский”. Ещё бабка бабы Зины знала этот язык “все дома не ём говорили промеж собой. А тяперьчи токо знающие помнят заговоры да молитовки цупрянски”. Ягутошками баба Зина называла собственно рязанцев. Давным-давно поселились они среди цупрянов. “Язык у них русский, московский, вера тоже”. При этом «в том, что цупряны забыли свой язык, обычаи и обряды предков, баба Зина винила ягутошек»25. Очевидно, в этом рассказе отразилась вся этническая история правобережной Мещеры XV–XIX вв., когда в результате длительной ассимиляции местная мордва утратила своё национальное самосознание.
В данном случае любопытно рассмотреть происхождение субэтнонимов, приведённых Я. Чайкой. Ягутошка, или ягутка, в словаре Даля означает работника-бурлака26. Д. Зеленин объясняет прозвище ягутки с позиций морфологических особенностей русских говоров: «Рязанцев и тамбовцев называют ягутками по поводу их произношения: яго (его), причём про рязанцев говорят (нижегородцы), что это “старые ягутки”, а тамбовцы – “новые”»27. Безусловно, данное прозвище возникло из-за особенностей дикции, свойственной «ягуткам», но непривычной для коренных жителей Мещерской низменности.
Гораздо интереснее вопрос о том, что может означать другой субэтноним – цупряны. Характерно, что он похож на название локальной группы русских жителей бассейна левобережного притока Дона – реки Хворостань, которых называли цуканами. Исследователи отмечали, что это название возникло из-за говора цуканов, которому свойственно цоканье, то есть замена звука ч на ц (целовек, цаво), и чоканье – ч вместо ц (черква, чепочка)28. Однако, судя по некоторым этнографическим особенностям, описанным у цуканов, в них можно видеть потомков переселенцев из центральных русских губерний29. Д. Зеленин не сомневался, что субэтноним «цуканы» возник из-за особенностей фонетики его носителей, отмеченных соседями30. Но происхождение этнонима «цупрян» нельзя связывать с цокающим диалектом потомков коренных жителей Мещеры – в первую очередь из-за его строения. Хотя цоканье, безусловно, сыграло свою роль в его образовании, как мы увидим дальше.
Darmowy fragment się skończył.