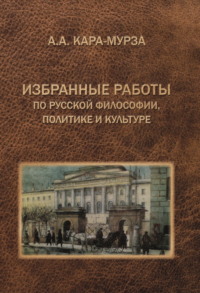Czytaj książkę: «Избранные работы по русской философии, политике и культуре»
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Рецензенты:
О. А. Жукова, доктор философских наук, профессор (НИУ «Высшая школа экономики»)
М.М. Федорова, доктор политических наук (Институт философии РАН)
В оформлении обложки использована картина К.Ф. Юона «Московский университет», 1911 (находится в общественном достоянии).

© А. А. Кара-Мурза, 2024
Предисловие
Перед читателем – сборник работ, написанных автором в последние десять лет. Большинство текстов – ранее опубликованные статьи; меньшая часть – доклады, сверенные по стенограммам. И у всех есть, как мне кажется, общая особенность: они, как правило, написаны по очень локальному поводу, конкретны в своих выводах и созданы в общем исследовательском ключе, который я для себя называю попыткой приоткрытия «маленькой правды».
Принципиальную разницу между полуправдой, пусть даже большой и внешне солидной, и маленькой правдой (пускай мизерной, но всё-таки правдой), открыл мне в студенческие годы, совсем юному, мой научный наставник, профессор-историк, а сейчас академик, Аполлон Борисович Давидсон. Сегодня я очень хорошо понимаю, как он со мною, зеленым, но упрямоамбициозным, тогда намаялся.
Еще в школьные годы, я, с детства мечтавший стать, как и отец, профессиональным историком, странным образом одновременно тяготел не столько к фактографии, сколько к умозрению — здесь, как я сейчас понимаю, до поры затаилось серьезное противоречие. Когда всякое лето, после старших классов французской спецшколы, я, по протекции отца (имевшего много знакомых среди выпускников истфака), работал в южных археологических экспедициях, старшие товарищи, уже студенты, а некоторые и аспиранты-историки, почему-то прозвали меня философом — ив этом, я заметил, было больше искреннего удивления, чем высокомерной снисходительности к малолетке. Природу спонтанного, но, как оказалось, очень точного определения моей юношеской «повадки» я начал понимать спустя годы – вот уже более сорока лет я, историк по первому образованию, работаю в академическом Институте философии. Об обстоятельствах этой философской метаморфозы аспиранта-историка можно прочитать в первом разделе настоящего сборника «Наброски автобиографии».
Разумеется, все эти годы, проведенные в родном институте, я был активно вовлечен в обсуждение общетеоретических проблем. Так, одним из центральных проектов для научного направления «Социальная и политическая философия», находящегося под моим кураторством в Институте философии РАН вот уже 30 лет, явилось исследование соотношения философии и идеологии как форм общественного сознания. Важным импульсом для меня и моих товарищей по отделу стала серия научных докладов, где, конечно, выделяется ставшая уже «исторической» полемика между двумя нашими философскими корифеями (и моими старшими коллегами и друзьями) Эрихом Юрьевичем Соловьевым и Вадимом Михайловичем Межуевым (увы, уже покойным)1.
Мои принципиальные тексты на эту тему («Между философской критикой и идеологической апологетикой (об уровнях бытования человеческих идей)», «Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст», «Философия в России и русская философская публицистика» и др.) читатель найдет во втором разделе книги «Вопросы методологии». Во всех этих работах в итоге формулируется конкретный результат – надеюсь, та самая «маленькая правда». Обосновывается, например, на материале истории отечественной мысли, трехуровневость бытования человеческих идей: идеи – идеологемы – идеологии. Или: предлагается алгоритм вырождения идей в идеологии – общий, как выясняется, что для социализма, что для национализма, что для либерализма. Или: доказывается, что философская публицистика (в первую очередь, в России) является не трансляцией, «разжижением» для внимающей публики уже готовой философии, а, напротив, способом восхождения к философии — за счет всё более отчетливой кристаллизации рождающихся в публицистике философских смыслов.
В третьем разделе «Россия в поисках цивилизационной идентичности» собраны тексты, написанные с позиций «цивилизационного подхода» к всемирной и отечественной истории, который я, историк-востоковед по первому образованию, исповедую со студенческой скамьи. К примеру, «Россию и Европу» Н.Я. Данилевского я внимательно прочел еще на первых курсах университета, когда большинство нынешних шумливо-сервильных «цивилизационщиков» еще молились на истматовскую стадиально-формационную «пятичленку».
Я давно пришел к выводу, что в основу любого цивилизационного исследования разумно поместить две логические оппозиции: органическое развитие versus социальный конструктивизм (спонтанность / импровизация в терминах А.М. Салмина); и преемственность versus прерывность. В этом смысле динамику истории цивилизации в России я определяю, как преемственность через катастрофы, которые всякий раз заканчиваются новым «цивилизационным выбором», когда накопившаяся социокультурная инерция неизбежно взрывается энергичным конструктивистским выплеском.
Подобные переходные состояния общества всегда травматичны для современников, ибо «выбор цивилизации» – это ведь одновременно и обрубание, иногда беспощадное, альтернативных цивилизационных возможностей. Но именно постоянное мыслительное присутствие в нашем научном дискурсе «альтернатив» и отличает философию истории (которой я более 30 лет стараюсь заниматься в качестве руководителя Сектора философии российской истории) от, скажем так, просто истории.
В плане определения цивилизационной идентичности России я давно предлагаю обратить внимание на подзабытую концепцию «Россия как Север», некогда очень влиятельную, а временами и доминировавшую у нас во второй половине XVIII – первой трети XIX вв. Лишь во времена императора Николая Павловича, с изменением геополитических и идеологических приоритетов, идеи русского северянства постепенно сошли с авансцены, уступив место новой парадигме «Россия между Западом и Востоком» с ее противостоянием отечественных западников и славянофилов. Эта парадигма, вместе со всеми новыми ее эманациями (например, нео-евразийством), на мой взгляд, постепенно исчерпывает свой эвристический потенциал.
«Русское северянство» зародилось в Елизаветинскую эпоху в одической поэзии «великого помора» М.В. Ломоносова, а позднее получило статус полуофициальной доктрины в сочинениях императрицы Екатерины и ее ближайшего сотрудника, графа Никиты Панина. Классик русского «золотого века», князь П.А. Вяземский, сам безусловный «северянин», называл годы интеллектуального альянса Екатерины и Панина самыми русскими в многовековой истории России.
Статьи, собранные в «цивилизационном» разделе книги, с разных ракурсов показывают эволюцию идей «русского северянства» в трудах наших крупнейших интеллектуалов – Михаила Муравьева, Николая Карамзина, Гавриила Державина, Константина Батюшкова, Алексея Мерзлякова, Александра Грибоедова, Александра Бестужева-Марлинского и др. Декабристская эпоха дала нам примеры и такой утонченной формы русского северянства, как цивилизационная самокритика (у Николая Тургенева или Петра Чаадаева), о чем читатель также сможет прочесть в книге. Я вообще считаю, что «российская идентичность», о которой так много спорят, – это есть совокупность представлений о России ее лучших умов. Творческое самовыражение плеяды отечественных талантов, которую я обозначил, не оставляет сомнений: Россия – северная страна2.
Мотивы северянства отчетливо звучат и в русской художественной литературе XIX–XX вв. К примеру, у Ивана Тургенева (которого за могучий рост и великий талант в Европе называли «северным гигантом»), а также в поэзии Серебряного века – у основоположника поэтического северянства Ивана Ореуса-Коневского (мой дед, адвокат и литератор С.Г. Кара-Мурза, был, кстати, его большим поклонником, о чем я пишу в соответствующей статье), а затем у его прямых литературно-философских последователей – Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама3.
Представляется, что общая геополитическая рамка Россия как Север позволяет органически соединить и сегодня два главных потока о бщероссийской цивилизационной общности – христианства (в его восточно-православном варианте, идущим от Византии) и ислама. Мы давно и хорошо знаем, что православие в России – это результат перемещения греческого христианства из региона восточного Средиземноморья на Север – сначала в Киев; потом (начиная, например, с Андрея Боголюбского) – еще севернее, во Владимиросуздальскую землю; а потом в «северную Пальмиру» – Санкт-Петербург.
Но ведь и российский ислам – это северный ислам. В 2022 г. российскими мусульманами было отмечено 1100-летие присоединения к мусульманскому миру Волжской Булгарии – самого северного из известных в истории исламских эмиратов. Кстати, тенденция к продвижению российского ислама еще далее на север активно продолжается и сегодня: мусульманская молодежь из перенаселенных Кавказа и Средней Азии оседает и закрепляется в наших северных широтах в поисках достойной жизни. Интеграция и взаимопереплетение различных ветвей российского «северянства» продолжается.
Четвертый раздел книги «Философия истории» объединяет статьи и доклады, рожденные на стыке философского мышления и конкретного исторического знания. Так вышло, что из написанных мною до сего дня книг наибольшую известность получили посвященные русскому восприятию Италии4. Уже первый четырехтомник, изданный в 2001–2002 гг., стал, по многим оценкам, «отечественным Бедекером» – сходство подчеркивала ярко-красная обложка серии.
Дальнейшее увлечение итальянской темой привело к тому, что, занимаясь ранее в основном русскими XIX и XX столетиями, мне пришлось серьезно углубиться в историю5. Важным импульсом к этому стало плотное сотрудничество с итальянским Университетом г. Бари (Бар-града), Ассоциацией «Русская Апулия» и персонально с моим давнишним другом, замечательным русско-итальянским историком Михаилом Талалаем – инициатором ежегодных (увы, прерванных пандемией) «Барградских чтений»6. Плодом этой совместной работы стало, например, исследование русских паломничеств в Бари, к мощам св. Николая Мирликийского. Изучение этого вопроса привело к неожиданному выводу: среди т. наз. «русских стажеров», отправленных в самом конце XVII в. молодым царем Петром в Италию для обучения морскому делу, значительную часть составили… вычищаемые из Москвы «потенциальные оппозиционеры». И Николе-Чудотворцу, «русскому Богу», они поклонялись не только как покровителю путешественников (в первую очередь морских), но и как заступнику за невинно преследуемых.
Мое особое внимание к временам, когда «неблагонадежными» (а ранее считавшимися в литературе «верными соратниками» Петра) оказались и Петр Толстой, и Борис Куракин, и даже Борис Шереметев, не говоря уже о братьях Милославских и фактическом теневом лидере «оппозиции» Федоре Лопухине, привлек князь Петр Алексеевич Голицын (1660–1722), который, на основании собранных доказательств, и оказался той интригующей «Великой Персоной», над разгадкой происхождения мемуаров которой историки бились более двух столетий.
В статьях «философско-исторического» раздела книги я, на ряде примеров, показываю также, что известные со школы классики нашей культуры параллельно проявили себе серьезными политическими мыслителями. Удалось установить, например, что гениальная поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» написана автором в системе понятий трактата Никколо Макиавелли «Государь» и явилась полемическим ответом Пушкина на критику со стороны его бывшего друга – польского поэта и поклонника Макиавелли Адама Мицкевича.
Не менее неожиданными стали результаты углубления в творчество И. С. Тургенева. Я и раньше предполагал, что исследователи недопустимо сужают масштабы тургеневского наследия – человека, как-никак проучившегося аж на трех философских факультетах – в Москве, Петербурге и Берлине. Неудивительно, что Иван Тургенев – прямой ученик и наследник безвременно сгоревшего в Италии от чахотки Н.В. Станкевича7, вырос в разностороннейшего интеллектуала-энциклопедиста, которого немецкий дипломат и политик Хлодвиг Гогенлоэ прочил ни много ни мало в премьеры кабинета министров царя-реформатора Александра II!8
Что касается давно любимых мной социально-политических мыслителей русского «серебряного века»9, то я, все последние годы оставаясь еще и руководителем кафедры политологии Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), в своих публикациях и докладах стараюсь акцентировать внимание на – буквально – политологических открытиях наших славных соотечественников. Это – и концепция «личной годности» П.Б. Струве; и концептуальное разведение «философской истины» и «интеллигентской правды» Н.А. Бердяевым; и обнаружение главного смыслового пространства политики «по ту сторону правого и левого» С.Л. Франком; и закладка основ «политической альтернативистики» в сочинениях В. А. Маклакова; и виртуозное противопоставление понятий «свободы» и «воли» у Г.П. Федотова и т. д.
Исследование, посвященное европейским странствиям молодого Николая Михайловича Карамзина10, открывает заключительный, пятый раздел книги – «Философское краеведение»11. Мне, надеюсь, удалось доказать, что молодой Карамзин – никакой не «путешественник» (название его знаменитых путевых записок «Письма русского путешественника» – пример горчайшей самоиронии!), а один из первых русских эмигрантов, изгнанников, скрывавшийся в Европе в 1797–1798 гг. от преследований буквально охотившегося за ним изощренного екатерининского провокатора, обер-прокурора московского Сената князя Гагарина, метко прозванного современниками «Тартюфом»12. Возвращение Карамзина в Россию в момент начала открытых гонений на его друзей-мартинистов, группировавшихся вокруг русского просветителя Н.И. Новикова, – акт большого гражданского мужества.
Столь же отважным был поступок и другого моего героя (статья о его итальянском вояже идет в «пятом разделе» сразу вслед за карамзинской) – отставного гвардейского ротмистра и героя Кульма Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), который вернулся в Россию из своего европейского турне летом 1826 г. – в самый разгар следствия над его друзьями-декабристами13.
В одной из работ, не вошедших в настоящий сборник, я как-то заметил, что драма русской эмиграции: от Александра Герцена – через массовый пореволюционный исход – к диссидентам новейшего времени, во все времена состояла в том, что эти люди, зачастую цвет отечественной культуры, вынуждены были, в силу обстоятельств, предпочесть родине – свободу И в этом смысле особое, выдающееся место в нашей культуре таких людей, как Карамзин и Чаадаев, обусловлено в том числе и тем, что они – безусловные европеисты по образованию и воспитанию – сумели (или осмелились?) поставить вопрос принципиально иначе: а зачем мне свобода без родины?14
Вообще, тексты, написанные в жанре «философского краеведения» я отношу к числу наибольших моих удач последнего времени. Это, например, статьи, связанные с теми же исследованиями «русской Италии», – о Риме Ивана Тургенева, о Сорренто Владимира Соловьева, о Венеции Леонида и Бориса Пастернаков, о Генуе Антона Чехова, об острове Капри Ивана Бунина, о Флоренции Владимира Вейдле15. Но особенно, мне кажется, удался текст, посвященный пятидневному (всего лишь) пребыванию во французском Дижоне весной 1857 г. приятелей-литераторов Ивана Тургенева и Льва Толстого. Для того, чтобы понять детали (от театральных до гастрономических) этого малоизвестного совместного вояжа двух национальных гениев, пришлось, разумеется, поехать в столицу Бургундии и провести, что называется, «расследование на месте».
Однако «за границей хорошо, если можешь вернуться», – как сказал я в одном из интервью авторитетной федеральной газете. Я всегда учил и учу своих студентов и аспирантов: философско-краеведческие откровения (открытия той самой «маленькой правды») возможны и совсем рядом – в родном городе. Свидетельства тому – тексты о «философской Москве», например, о Николае Бердяеве (близится его 150-летний юбилей) и Федоре Степуне. Скоро выйдут и новые работы – «Москва Николая Карамзина» и «Москва Петра Чаадаева». Интереснейшая работа философа-историка, надеюсь, продолжится…
Алексей Кара-Мурза, осень 2023 г.
Раздел первый
Наброски автобиографии
О нашем поколении
В наш московский академический Институт философии я попал в 1980-м году, можно сказать, случайно. К тому времени я, наверное, даже толком не знал, где такой институт находится. Хотя я коренной москвич и все ранние годы прожил в центре (на Кирова/Мясницкой, на Жданова/Рождественке, у Елоховского собора), я, каюсь, не обращал отдельного внимания на стоящий в глубине квартала на Волхонке бывший дом князей Голицыных, в котором потом пройдут тридцать пять лет моей жизни.
Меня ничего не связывало с этим зданием и с обосновавшимся там учреждением, хотя в 1970-е годы, еще будучи студентом, а потом аспирантом МГУ, я был достаточно глубоко погружен в академическую жизнь Москвы. По профилю своего образования, я десятки раз был и в Институте востоковедения на родной улице Жданова, и в Институте всеобщей истории у станции метро «Академическая», где работал мой научный руководитель, теперь академик Аполлон Борисович Давидсон. Но более всего, по нескольку раз в неделю, я бывал в ИНИОНе с его уникальной библиотекой и в Институте Африки – сначала в Староконюшенном переулке, а потом и в новом здании – у Патриарших.
По университетскому образованию я историк – вслед за отцом, окончившим истфак МГУ, а потом несколько десятилетий проработавшим главным редактором историко-педагогического журнала. Дипломированным историком был и мой покойный брат Владимир, более известный, как тележурналист. Я же окончил кафедру африканистики историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки при МГУ. Помимо детской тяги к дальним путешествиям (почему-то именно в Центральную Африку и на острова Тихого океана), меня с ранней школы влекло к исторической науке. С первых студенческих лет в старом здании МГУ на Моховой, я активно работал в исторической секции Научно-студенческого общества (НСО), побеждал на конкурсах научных работ и на последнем курсе возглавил объединенное НСО всего Института.
Мой дальнейший карьерный путь был примерно ясен и для меня, и для моих однокашников, и, видимо, для моего тогдашнего вузовского начальства. Помню, от меня очень быстро отстали пришедшие к нам на Моховую «вербовщики в погонах»: не секрет, что ИСАА (там в мое время на десять ребят приходилась одна девушка; сейчас – ровно наоборот) был одним из главных кадровых резервуаров и для нашей внешней разведки, и для разного рода забугорной работы «под прикрытием» (на моем курсе, например, учились семь или даже восемь будущих генералов). Бегло просмотрев мое личное дело и задав пару вопросов, офицеры разочарованно переглянулись: парень вроде и соображает, но для серьезной службы Родине потерян – пусть идет себе в аспирантуру.
Я и пошел тогда в аспирантуру той же кафедры африканистики, продолжив писать на тему удавшегося, по всем отзывам, диплома: «Формирование новых элит в странах Тропической Африки». Сейчас бы эту тему определили, скорее всего, по ведомству sciences politiques, но в те годы такой специальности у нас в стране попросту не было.
Я сейчас совершенно не помню деталей того, что случилось со мной на последнем году аспирантуры. И никто из моих друзей-аспирантов (с некоторыми мы дружим более сорока лет) тоже не в состоянии мне помочь: каким образом меня вдруг угораздило оказаться в нешуточном конфликте с самим ректором ИСАА?! По-видимому, я тогда «заигрался», переоценив свою роль «молодежного вожака» (я по-прежнему был руководителем НСО), и, наверное, повел себя демонстративно независимо. А ведь это был еще только рубеж 80-х: идеологическую борьбу, тем более в идеологическом вузе, – никто не отменял. Начальству, наверное, резала глаз и моя очевидная приязнь к определенного склада профессорам и преподавателям, носившим печать идейного фрондерства. Уникальным специалистам, знавшим в совершенстве редкие языки, такое поведение годами сходило с рук, но плодить в серьезном вузе новых полу-диссидентов за счет новобранцев из молодежи руководство, конечно, никак не планировало.
Как бы там ни было, перспектива моего беспроблемного распределения на кафедру довольно быстро затуманилась, а потом и рассосалась. Более того, сведущие люди донесли, что даже спокойно защититься в ИСАА мне вряд ли дадут. С поста председателя НСО пришлось уйти. Последним моим «звездным часом» в университете, как сейчас помню, стало бригадирство летом 1979-го года в сводной бригаде аспирантов МГУ: надо было срочно доделывать за строителями олимпийский гостиничный комплекс в Измайлово (я и сегодня, когда проезжаю мимо, обязательно небрежно так бросаю таксисту: «Мы строили…»).
Олимпиада-80 успешно закончилась, а вопрос с моей будущей защитой и распределением еще больше «завис». И тут случилось «обыкновенное чудо» – иначе назвать это я не могу. Где-то осенью, по-видимому вечером, к нам в коммунальную квартиру на Разгуляе прозвонилась не очень трезвая (как мне показалось) моя бывшая однокурсница Наташа О., по специальности китаистка, и полушутя (или мне опять так показалось?) сообщила, что в Институте философии Академии наук, в секторе философии Востока, ищут молодого сотрудника – и почему-то именно «африканиста»! Я бы, наверное, еще долго смеялся, но Наташа вызвалась уже на следующий день лично отвести меня в тот самый Институт, в тот самый сектор и познакомить меня с заведующей – «чудесной», по ее словам, Мариэттой Тиграновной Степанянц.
Вот так я и появился в «желтом доме» на Волхонке 14. Мариэтта Тиграновна, действительно, оказалась замечательной женщиной и очень живо рассказала, как из института уволился (или вынужден был уволиться) известный ученый-африканист (его книги я, конечно, читал), освободилась таким образом «ставка», заполнить ее нужно очень быстро, иначе… ну и т. д. Присутствовавшая при разговоре Наташа О. еще раз подтвердила мои бесспорные достоинства: африканист-натурал (что и требовалось), победитель олимпиад, комсомольский активист, бригадир, кандидатская по африканистике почти готова…
Окончательно, как я понимаю, дело решил принесенный мною с собой (на всякий случай – и, как оказалось, очень кстати) старый текст «курсовой» за третий год обучения: «Философские (sic. – !) аспекты становления классов и государства в средневековой Руанде». Блеклый текст (чудом сохранившийся третий, если не четвертый, машинописный экземпляр), зато с исключительно удачным названием (работа, конечно, была чисто историко-политологическая и никак не философская), по-видимому, и стал решающим аргументом моего приема на работу. Этот текст потом неизменно фигурировал и на столе курирующего тогда восточный сектор замдиректора, а потом и перед самим директором, оригинальным человеком, как мне объяснили, «другом самого Брежнева». Замусоленная старая курсовая стала, таким образом, главным доказательством моей философской профпригодности: спасибо далекой Руанде, в которой я никогда не был и в которой больше половины населения говорит на до боли знакомом мне (а сейчас прочно забытом) языке суахили!
Некоторая несерьезность обстоятельств моего поступления в ИФАН не отменяла того факта, что у меня, конечно, были неплохие козыри для профессиональной работы на новом месте. Я очень хорошо знал тогда французский язык (спасибо спецшколе), несколько хуже – английский, мог читать и на португальском (это уже от университета). Свою задачу в секторе Востока я понял так: доказать, что и в Тропической Африке была и есть «своя философия».
Ряд обстоятельств мне благоприятствовал. Во-первых, выпускники ИСАА по определению не были европоцентристами: каждый знал и обожал свою далекую локальную культуру. «Цивилизационный» подход к гуманитарным наукам в нашей среде всегда превалировал над господствовавшим тогда «формационным», к которому востоковеды относились с нескрываемой иронией, переходящей в презрение. Пресловутая формационная «пя-тичленка» в востоковедной среде считалась ругательным словом.
Во-вторых, способствовало делу и мое тогдашнее, наивное, но искреннее, очень своеобразное представление о философии, которое любой выпускник философского факультета высокомерно определил бы как глубоко непрофессиональное. Под философией я понимал (а в какой-то степени понимаю и сейчас) просто мудрость: остальное – как говорится, «дело техники». Вывод напрашивался сам собой: если в локальном социуме есть своя «мудрость» (пусть даже весьма немудрёная), значит есть и «своя философия». Надо добавить, что это был в те годы очень модный тренд в востоковедении и африканистике: в разных экзотических странах сотни автохтонов (парадокс: европейски образованных) упражнялись на тему т. наз. этнофилософии. Нехитрая логическая цепочка: «автохтонная культура – патриотическая элита – самобытная этнофилософия» была мне внутренне близка, а в исследовательском смысле – еще и весьма удобна. Литературы по теме было полно, языки я знал, навыки исследовательской работы были наработаны в университете. И я, припоминаю, еще до защиты кандидатской (которая успешно состоялась-таки в МГУ в 1981 г.), прикинул: перспективы в Институте философии у меня есть, и неплохие; можно начинать задумываться и о докторской.
Разумеется, надо сказать несколько добрых слов о замечательном «восточном» секторе М.Т. Степанянц, в котором я проработал все 80-е годы. Я тогда понял, что буквально означает выражение: «кататься, как сыр в масле». Мне симпатизировала и всячески помогала не только Мариэтта Тиграновна, но и старшие коллеги: Е.А. Фролова (арабская мысль), В.Г. Буров (Китай), Ю.Б. Козловский (Япония). Но особенно я сблизился со «средним поколением» сектора. Гуля Шаймухамбетова, Оля Мезенцева, Володя Зайцев, Адик Михалев – увы, никого из них уже нет в живых. Светлая память!
Между тем, общественные настроения «за окном» менялись и сильно меняли нас. А я, надо признаться, всегда был «социально чувствителен». Не люблю выражение: «социально активен», хотя с середины 80-х возглавил в Институте комсомольскую организацию, а потом несколько лет фактически руководил Советом молодых ученых (молодежи, в подавляющем большинстве неостепененной, в институте было тогда много). Именно эта сторона жизни (назову ее условно «общественной»), возможно, в не меньшей степени, чем собственно занятия наукой, сформировала наше институтское поколение «восьмидесятников».
«Поколение», как мне представляется, не стоит путать с «возрастным срезом» – это принципиально разные, хотя и пересекающиеся сущности. «Поколения» создаются по преимуществу горизонтальными неформальными связями – чаще всего вопреки вертикально выстроенным связям служебным. Несмотря на то, что я всегда считал и считаю Институт философии учреждением уникальным, я все-таки не настолько сентиментален, чтобы отрицать, что и в годы моей молодости, и сегодня, Институт наш строился и строится вертикально-иерархически par exellence.
Иначе и быть не может – или не быть мне заведующим кафедрой прикладной политологии (в ГАУГНе)! Речь может идти лишь о той или иной степени «просвещенности» этого вполне естественного и даже органичного авторитаризма. Институтские старожилы уверяют, что когда-то отдельные сегменты нашего Института (и даже весь он в целом – кто бы мог представить!) управлялись «совсем не просвещенно», но я тех варварских времен почти не застал. По крайней мере, наш «восточный» сектор всегда принадлежал к числу наипросвещеннейших: в самом деле, свободно читать в оригинале суфиев, вайшешиков или джайнистов – это не то же самое, что, пыхтя, «овладевать» Марксом и даже Гегелем в русских переводах.
Но даже самый просвещенный авторитаризм, повторяю, не может стимулировать развитие текущих мимо него низовых человеческих «токов», в том числе поколенческих. Разумеется, такое товарищество (прямо как grass-roots movements!) активно формировалось в наше время и на суглинистых почвах подшефных совхозов, и на пахучих просторах плодоовощных баз, но подобное его произрастание (и даже цветение!) было лишь побочным следствием неукоснительного выполнения разнарядок, спущенных из райкома партии.
Мне, наверное, всё равно бы никто не поверил, если бы я стал отрицать наличие элементов авторитаризма в моем собственном стиле руководства сначала комитетом ВЛКСМ института, потом научным сектором, затем отделом, секцией Ученого совета, многочисленными исследовательскими проектами. И, тем не менее (спросите кого угодно – пусть даже сотрудников других подразделений!), «Мурза» в своей работе всегда старался находить время, силы и средства (!) для последовательного культивирования товарищества в отношениях с коллегами. Может быть поэтому мне действительно есть что рассказать о моем поколении в целом.
«Формирование поколения» я бы уподобил трудной и в чем-то рутинной лепке из глины. Кто здесь является Мастером – время, судьба или некие высшие силы – мне неизвестно. Я знаю другое: у масштабных скульптурных проектов всегда есть невидимый миру каркас из прочной арматуры. В отношении нашего поколения таким каркасом стала поначалу не собственно философия, а околонаучная молодежная практика. Я могу даже обозначить относительно точные хронологические пределы, когда этот новый поколенческий «каркас» в основном сформировался. Это были годы, немного утрируя, двух «комсомольских секретарств»: моего (1983–1986) и Марии Михайловны Федоровой (1987–1989) – моей преемницы, бывшего зама, старинного друга, а ныне бесспорного лидера новейшей российской политической философии и теоретической политологии. Характерно, что в указанный период именно к нашему, «комсомольскому» сообществу (а вовсе не к «своему» партбюро) «прилепилась» группа молодых институтских партийцев – Наталья Козлова, Александр Захаров, Федор Блюхер, Марина Быкова.
Если, обернувшись, взглянуть на тогдашнюю политику советского руководства (начиналась полная противоречий «эпоха Горбачева»), то одной из ее главных характеристик стало откровенное идейное попустительство в отношении гуманитарно-ориентированной молодежи. Это был период расцвета всевозможных «молодежных школ», «инициатив», «творческих молодежных коллективов» и т. п. С добрым чувством вспоминаю одно из расширенных заседаний тогдашней дирекции Института. При обсуждении какого-то вопроса, академик Смирнов (Георгий Лукич, разумеется) вдруг повернулся в мою сторону и спросил: «А что по этому поводу думает комитет комсомола?» На что сидящая неподалеку тогдашняя завотделом кадров с чувством выдохнула: «Это не комитет комсомола! Это – банда!».