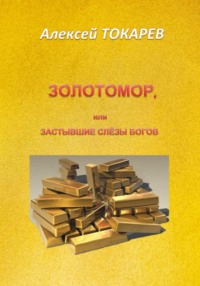Czytaj książkę: «Золотомор, или Застывшие слёзы Богов», strona 2
Потом долго ещё вспоминали, говорили, спорили: о давних событиях, семейных преданиях и именных медальонах. Из разговоров с родственницами Дубинин понял, что об исчезнувших ценностях они знали только общие детали:
а) Были драгоценности и золото, потом пропали. Где, как и сколько – не известно. Скорее всего, родители не раскрывали детям подробности из страха перед возможными репрессиями. А когда тревожные времена прошли, их уже не было в живых.
б) Во всех семьях когда-то были медальоны с непонятными знаками и символами, но где они сейчас, никто не рассказал. Многие догадывались, что семейные реликвии как-то связаны с исчезнувшими ценностями, но не знали каким образом.
Александр Александрович решил, что для возобновления поисков надо ехать в Свердловск и вместе с семьёй Ильиных попытаться отыскать записи Леонарда. Но Валентина Леонидовна отказалась от дальнейших контактов, споров и разговоров на эту тему.
Договорились ли тогда о чём-то родственники, Алексей не знал. Помнил только, что к концу встречи они уже горячились, препирались, ссорились вполголоса, разъехались и больше никогда после этого не встречались. Он иногда вспоминал ту поездку – жаркое лето, арбузы, катание на лодках по реке Урал. Мать с неохотой говорила с ним на темы семейных преданий и легенд. А на расспросы о сокровищах и дедушке, пропавшем при их поисках, отвечала, что расскажет как-нибудь позднее. Много лет спустя, когда он поступил в университет и раз в полгода приезжал на каникулы, она иногда откликалась на его расспросы и рассказывала известные ей истории из жизни семей его предков – солепромышленников Ильиных и рыбопромышленников Дубининых.
КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА
С восемнадцатого века в Оренбурге жили две купеческие семьи с общими корнями – Ильины и Дубинины. Торговали мануфактурой, галантереей, продуктами. Держали магазины, лавки, склады не только в Оренбурге, но и в других городах Поволжья.
Особое внимание обращено на эти две семьи, потому что именно их потомки будут вовлечены самым непосредственным образом в необыкновенные события загадочной истории, случившейся в годы распада великой Российской империи.
ИЛЬИНЫ
К середине девятнадцатого века Ильины занялись продажей и перевозкой соли, а со временем и разработкой соляных промыслов. Сначала глава семьи Алексей Васильевич, а за ним и остальные родственники перебрались в небольшой безуездный городок Илецк Оренбургской губернии, где соль добывалась открытым, а потом и шахтным способом. Его сыновья Сергей и Леонид помогали отцу уже с малолетства: вместе с ним работали на соляных складах в Илецке, Оренбурге, Самаре, встречались с перекупщиками и перевозчиками, участвовали в сделках по заключению договоров. Новое дело приносило солидную прибыль, и к концу века Ильины стали одними из самых известных солепромышленников России. И знали их не только в Поволжье. Илецкую соль, о которой дал свой отзыв ещё М.В. Ломоносов: «…сию соль в твердости, силе и споризне предпочесть прочим солям», они поставляли по всей стране и за её пределы. С соляных складов Самары перевозили баржами по Волге, пароходами – через Каспий в Баку и персидский порт Энзели.
Зачинатель династии, обучавшийся дома, умевший весьма сносно читать, писать и считать, уважал людей «ученых», как он говорил, и поэтому всячески стремился дать своим потомкам лучшее на то время образование. Всем дал, всех выучил и гордился этим не меньше, чем достижениями в делах своих. Радовался успехам детей и многих внуков, кого успел увидеть и понянчить. Все выросли, выучились, вышли в люди. Были среди них доктора, учителя, военные. Многие разъехались по стране. Поблизости от родового гнезда остались те, кто продолжили семейное дело – сыновья Сергей и Леонид, и внуки – двоюродные братья Николай Сергеевич и Иван Леонидович Ильины.
К началу нового двадцатого века делами, связанными с соляным промыслом, занимался, в основном, Николай Сергеевич. Он был и постарше брата, и поухватистее его. Да и внешне был копией своего деда. Иван же в последние годы мало занимался семейным предприятием. Во время учебы в Московском университете, куда его отправили учиться по настоянию отца, он вместе со многими нужными науками приобрёл страсть к игре в бильярд. И не просто приобрёл, а стал одним из лучших игроков в Москве, а потом и в Поволжье, куда вернулся продолжать семейное дело. Был бы жив дед его, поостерегся бы Иванко, как звал младшего внука старший Ильин, в игры играть. Да к тому времени отошел в мир иной Алексей Васильевич. А Иван играл много, весело, азартно; часто выигрывал, но и проигрывал, случалось, немало.
ДУБИНИНЫ
В тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году по призыву правительства Дубинины отправились осваивать пустующие территории юга России – прикаспийские земли. Государство предложило желающим переехать туда льготы и привилегии – освобождение от податей и воинской повинности, бесплатную добычу тюленей и рыбы в море, соли в соляных озерах по сто пятьдесят пудов на семью. Дубинины перебрались в Закаспийск – недавно образовавшееся поселение на восточном берегу Каспийского моря. Занимались торговлей и перевозками. Закупили лодки, баркасы, снасти и организовали рыболовецкие артели.
Со временем семейство рыбопромышленника, миллионера Николая Петровича Дубинина стало хорошо известно на Каспии и в Поволжье. Дубинин – удачливый предприниматель. Его продукция успешно конкурировала на рыбных рынках страны. Пароходы и баржи перевозили его грузы и разгружались на пристанях, принадлежавших ему же. Для хранения рыбной продукции сооружены амбары, погреба, ледники. В Закаспийске у семьи Дубинина большая усадьба – дом с садом и хозяйственными постройками. В тысяча восемьсот восемьдесят пятом году с помощью Дубининых в городе возвели и освятили церковь во имя Николая Чудотворца. Для наемных работников открыли баню, торговые лавки, столовую, где бесплатно кормили не только работников, но и их детей. В лавках отпускали товары под запись в счет будущих заработков. Бывало, что и долги списывали в трудные времена. Кроме того, были построены дома, магазины и склады в Астрахани, Гурьеве, Самаре и Оренбурге.
В тысяча восемьсот восемьдесят шестом году Николай Петрович женился. Через год родился сын, которого назвали в память деда, усопшего незадолго до его рождения. Над могилой отца Николай Петрович возвел памятник-часовню.
2024 ГОД. ИЮЛЬ. ЕКАТЕРИНБУРГ
«Интересно, а что же было дальше? Чем закончились поиски Александра Александровича? – задумался Алексей, подзабывший в последние трудные для него годы о загадочной истории. – Дубинин тогда явно не собирался останавливаться в своём расследовании. Как бы узнать, нашёл ли он что-нибудь. Если не само золото, то хотя бы объяснение, куда его вывезли».
Ильин помнил, что после поездки в Оренбург мать с кем-то переписывалась. Теперь, увидев папку с письмами и открытками, понял, что она отвечала на поздравления родственников. Но от старшего Дубинина писем в папке не было.
Надо осмотреть сарай, в который он когда-то перенёс ненужные вещи и старую мебель. Потянувшись за ключом, Алексей вытащил из кармана мятый конверт, выпавший из почтового ящика: «Казань, Вознесенский Максим Дмитриевич».
«Казань? Там жили родственники, приезжавшие на встречу в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году. Максим Дмитриевич? Кто это? Неужели тот Максимка, с которым они катались на лодке по Уралу тем жарким летом в Оренбурге? Сколько лет им тогда было? Десять? Одиннадцать? – Вскрыл конверт. – Точно, он!»
«Алексей, привет!
Я Максим Вознесенский, твой дальний родственник. Если точнее, твой прадед Ильин Леонард Иванович и моя прабабка Ильина Елена Николаевна были троюродными братом и сестрой. Помнишь, как лет тридцать назад, а то и больше, мы с нашими родителями встречались в Оренбурге? Они собирались по поводу некой таинственной истории исчезновения семейных ценностей после революции. Коротко напомню на всякий случай.
В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года золотой запас Российской Империи вывезли из Казанского банка сначала в Самару, а потом в Омск к Колчаку. И в это же время твой прадед Леонард Ильин вывез из этого банка золото наших семей на юг России. Куда точно, никто не знал.
Эта история недавно получила продолжение. Ко мне приезжал сын того самого Дубинина А.А., который собирал наших родителей. Получается, что этот гость в какой-то степени дядя и тебе и мне. Он рассказал, что продолжает дело отца, так же занимается поисками пропавшего золота и хочет найти дневники твоего прадеда, якобы оставшиеся в вашей семье. Перед тем, как приехать ко мне, он заезжал в Екатеринбург, чтобы встретиться с твоей матушкой Валентиной Леонидовной, но никого в вашем доме не застал. Соседи рассказали ему о смерти твоих родителей и жены, а про тебя ничего сообщить не смогли: не знали, где живёшь.
Прими наши соболезнования. Прости, но мы ничего не знали о случившемся.
Думаю, что этот родственник снова приедет к кому-то из нас. Очень уж он заинтересован в получении этих документов или хотя бы части из них. Настоятельно просил меня узнать, где ты находишься и есть ли у тебя бумаги Леонарда. Пишу уже не первый раз и не получаю ответа, наверное, живёшь по другому адресу. Хочу поговорить и переслать некоторую интересную для тебя информацию. Срочно позвони по указанному номеру или вышли свои координаты!
М. Вознесенский».
Алексей тут же отправил ответ по указанному адресу и принялся ещё раз осматривать закоулки дома: неужели не заметил какие-то незнакомые документы.
Он вспоминал последние годы жизни матери. Как приезжал из Москвы на каникулы и она, вернувшись с работы, подсаживалась к нему, угощала чем-нибудь вкусным и расспрашивала об учёбе, друзьях, подругах. При этом, как бы, между прочим, осторожно выпытывала о том, чем они занимаются кроме занятий на досуге по вечерам и в выходные дни.
– Играете? … А во что? … Шахматы, карты? А в бильярд не играете?
Узнав, что сын с друзьями в бильярд не играют, Валентина Леонидовна успокаивалась до его следующего приезда.
В последние годы она, будто предчувствуя скорую кончину, всё чаще и подробнее рассказывала о жизни семей Ильиных и Дубининых в далёкие годы начала двадцатого века. Из этих рассказов Алексей понял причину её вопросов и опасений.
НАЧАЛО XX ВЕКА. ИЛЬИНЫ
В тысяча девятисотом году у дальних родственников, но близких друзей и компаньонов Николая Петровича Дубинина и Николая Сергеевича Ильина родились дочери – Мария и Ольга. И в этом же году случилась беда. Неподалёку от Закаспийска, вблизи острова Лебяжий во время шторма был выброшен на камни и затонул корабль Ильина. Часть экипажа удалось спасти, несколько человек погибли. Николай Сергеевич выделил деньги для установки на острове памятника погибшим морякам. Спасшихся отхаживали в больнице, построенной Дубининым на окраине Закаспийска.
В тысяча девятьсот пятом году после окончания оренбургской гимназии Леонард Ильин поступил в Императорское Московское техническое училище. В отличие от отца, к азартным играм он не был склонен, но вот революционное неистовство столицы захватило его. После январских событий новый учебный год начался с бурных собраний, сходок, создания различных комитетов. Проводились сборы средств для помощи политзаключенным. Образовывались органы самоуправления, куда выбирались как беспартийные студенты, так и представители различных политических партий: социал-демократы, эсеры, кадеты, анархисты.
Леонард сошёлся с такими же неугомонными и безрассудными сверстниками из ячейки социал-революционеров. Начав с борьбы за принципы студенческого самоуправления, молодые эсеры, выражая солидарность с рабочими столицы, перешли к призывам о прекращении учебных занятий и участии в стачках и забастовках. В тысяча девятьсот шестом году Ильин вступил в Союз социалистов-революционеров-максималистов, выделившийся из партии эсеров и занимающий промежуточную позицию между ними и анархистами. Максималисты ожесточённо противились развитию капитализма в России и боролись за преобразование страны на социалистических началах. В своем стремлении к реформам эсеры – максималисты перешли от забастовок и митингов к террористическим актам и экспроприациям, надеясь дезорганизовать власть и призвать народные массы к восстанию.
Борьба с режимом, забастовки, митинги, подпольная деятельность. Во всех акциях принимал участие и Леонард, ставший к тому времени одним из активных приверженцев силовых методов давления на власть. В составе одного из боевых летучих отрядов максималистов он принимал участие в нападениях на представителей власти и экспроприациях. В марте тысяча девятьсот шестого года участвовал в ограблении Московского общества взаимного кредита. А в октябре того же года – в нападении на карету казначея Петербургской портовой таможни. Был арестован охранным отделением, но в скором времени выпущен из-за отсутствия прямых улик.
Отец, узнав об участии Леонарда в нападении на купеческое общество, основанное при участии его семьи и семей других известных предпринимателей – знакомых, друзей, партнёров, в негодовании лишил сына поддержки проживания и обучения в Москве. Учиться стало заметно труднее, к тому же отвлекали партийные дела. Бывало, что Леонард пропускал по два-три семестра, да и оплату за обучение вносил нерегулярно. В ту пору к «вечным студентам» университетское руководство относилось снисходительно, их не отчисляли и некоторые, как он, учились по семь-восемь лет, а то и больше.
Тысяча девятьсот одиннадцатый год стал поворотным и несчастливым для Ильина. Сначала случилась беда с его отцом, известным игроком и кутилой. Иван Леонидович, которому на то время шёл сорок пятый год, считался лучшим игроком Поволжья, да и по всей России мало было равных ему бильярдистов. И вот он проиграл огромную сумму, а заодно и особняк в Оренбурге, построенный еще его отцом, дедом Леонарда. Проиграл и после этого исчез. Ходили слухи, что, скорее всего, в живых его уже нет. То ли сам после игры свёл счёты с жизнью, то ли помогли ему. Говорили, что проигрыш его произошёл при странных обстоятельствах. Играли в известном в городе салоне. Свидетелей было мало, а те, кто присутствовал, особенно не разбирались в тонкостях и правилах игры. Так что они не могли сказать ничего определенного о профессионализме соперников Ивана Леонидовича. Но им показалось, что он был или не здоров, или под воздействием каких-то препаратов: не пьян, но не в себе. Были и такие слухи, что к проигрышу и исчезновению причастен Николай Сергеевич Ильин, которому надоели праздность, игры, расточительность двоюродного брата.
Поиски были организованы с опозданием и не увенчались успехом, потому что родственники пропавшего не сразу сообщили о случившемся. В их среде азартные игры и разгульный образ жизни осуждались. Считалось, что игрок на деньги не может быть серьёзным предпринимателем. Пагубные пристрастия несовместимы с холодной рассудительностью и расчётливостью, которые необходимы промышленникам и купцам. А Иван Леонидович не обладал такими качествами и постоянно попадал в неприятные и даже скандальные ситуации. Его близкие привыкли к этому, не обращали внимания на его выходки и особо не торопились спешить ему на помощь.
В том же тысяча девятьсот одиннадцатом году партия социалистов – революционеров – максималистов прекратила своё существование. Леонард и его единомышленники по партии продолжили борьбу с режимом проведением единовременных акций – экспроприаций банков и коммерческих предприятий. Но, в основном, перешли к методам идеологической борьбы: вовлекали в свои ряды единомышленников, выпускали партийную литературу и листовки, готовили и проводили митинги и забастовки.
За восемь лет участия в революционных битвах из романтического восторженного юноши Леонард превратился в непримиримого борца с монархией – скрытного, жёсткого, решительного, бескомпромиссного.
Ильин был арестован осенью тысяча девятьсот четырнадцатого года. На открытом судебном процессе по делам об ограблениях банков, государственных и частных фондов защищал позицию партии. Как и другие его сподвижники был осуждён и сослан в Сибирь. Там, в селе Манзурка Иркутской губернии, он познакомился с политссыльными Вячеславом Михайловичем Молотовым, Мартином Ивановичем Лацисом, Верой Петровной Брауде. Подружился с анархистом Александром Бакуном, с которым был знаком ещё по Оренбургской гимназии. А в октябре тысяча девятьсот шестого года они вместе принимали участие в подготовке акции по нападению на инкассаторскую карету Петербургской портовой таможни, названной позднее в газетах «Ограблением века».
После бурных событий тысяча девятьсот пятого года революционная энергия в стране угасала, и только эсеры-максималисты и анархисты различных течений не прекращали борьбы. Бакун был известен как бесстрашный активист боевых дружин анархистов. По окончании гимназии он поступил в Санкт-Петербургский Горный институт, но в тысяча девятьсот седьмом году бросил учебу и полностью отдался работе сначала в подпольном революционном кружке, потом в Московской группе анархистов – коммунистов. Приверженец жёсткого безмотивного антибуржуазного террора и экспроприаций, он был известен в Санкт-Петербурге и Москве под партийным прозвищем Бакунин. Поджарый, среднего роста, темноволосый крепыш с холёными чёрными усами и выправкой спортсмена притягивал женщин и отталкивал мужчин. Незнакомых людей смущал и тревожил его настороженный, недобрый, звероватый взгляд исподлобья – взгляд хищника, всегда готового к внезапному нападению. На выбор псевдонима повлияли и характер его, и фамилия, и почитание одного из основоположников анархизма и народничества – Михаила Александровича Бакунина.
В иркутской ссылке Бакун и Ильин вместе охотились, рыбачили, работали в сельской школе.
1916 ГОД. ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
После тысяча девятьсот пятого года количество политссыльных в России значительно увеличилось. Сибирь стала местом высылки на поселение приверженцев разных идейных направлений, «вредных и революционных» для правящего режима – большевиков и меньшевиков, эсеров и анархистов. Но основную массу ссыльных составляли всё-таки уголовники: от фальшивомонетчиков и конокрадов до воров, разбойников и убийц. Возможно, поэтому местные жители с недоверием встречали всех этапников, их сторонились и никакого сочувствия не проявляли. Говорили: «Поселенец, что младенец, на что взглянет, то и стянет».
Поначалу политссыльные, особенно из больших городов, были угнетены тяжёлыми условиями новой жизни и беспомощны. В суровом климате недружелюбного захолустья они оказались отрезанными от мира обыденного благополучия. Но со временем привыкали, окружали себя необходимыми вещами, вели спокойную, размеренную жизнь, стараясь организовать её по образу той, которой жили до ссылки. Постоянно нуждаясь, брались за любую работу. В «Положении о полицейском надзоре» был установлен порядок надсмотра в местах пребывания политических ссыльных. Давая относительную свободу, им запрещалось отлучаться, поступать на государственную службу, заниматься адвокатской и педагогической деятельностью. Некоторые возможности зависели от дозволения местного начальства. Учителя, студенты, гимназисты иногда получали разрешение на обучение детей грамоте. Врачей в тех краях всегда не хватало, и они занимались лечебной практикой. Кроме того, ссыльные могли устраиваться на временные работы. Кто-то занимался охотой, рыбалкой, кто-то работал на пристанях, лесозаготовках. Местные власти были обязаны помогать ссыльным, что они и делали: выделяли небольшие деньги и продукты питания, выдавали единовременные пособия на летнюю и зимнюю одежду.
Тяжёлые условия, необходимость преодоления житейских проблем не разделяли, а помогали сплочению ссыльных разных национальностей, социального происхождения, политических взглядов. Постепенно складывался неписаный свод правил существования в нелёгких и непривычных для них условиях. Политзаключённые объединялись в ячейки и коммуны, организовывали быт на условиях равенства всех членов коллектива, создавали кассы взаимопомощи, столовые, библиотеки. Помогали вновь прибывающим ссыльным с обустройством на новом месте, и те постепенно свыкались и растворялись в окружающем обществе. Но не все уживались и смирялись. Одни ожесточались и, возвращаясь впоследствии на родину, несли с собой гнев, злобу, ненависть. Другие пытались бежать, но без организованной помощи сделать это было почти невозможно. Иные просто спивались. Только долгая, трудная работа над собой в коллективе помогала в ссылке оставаться человеком.
Уголовники устраивались в этих условиях по-другому. Сбиваясь в группы и артели, они делились строго по специализациям – криминальным «профессиям» и имели разные права внутри своих общин. В каждой такой группе выбирался староста, державший артельные деньги – «общак». Он же нёс ответственность перед местными властями за все проступки уголовников, которые постоянно досаждали местным жителям.
У политических с уголовниками отношения складывались сложно. Вначале пробовали наладить мирное сосуществование, предлагали помощь по разным вопросам: образованию, просвещению, медицине, по бытовым проблемам. Но все миротворческие усилия заканчивались ссорами, жестокими столкновениями, кровопролитными драками. Были даже случаи убийств политссыльных.
Многие из политических до ссылки прошли суровую школу столкновений и боёв с царской охранкой, полицией и жандармерией. Эсеры-максималисты и анархисты считали индивидуальный террор и экспроприацию одними из решающих средств для уничтожения капитализма. Их напору, дерзости и силе уступал даже отлаженный столетиями репрессивный механизм царского режима. Большевики были менее привержены тактике революционного террора. Они относились к нему, как к защите и способу подготовки будущих кадров новой рабоче-крестьянской армии.
Суровая школа отношений после нескольких случаев столкновений, драк и нераскрытых убийств, подтолкнула политссыльных к объединению. Чтобы противостоять уголовникам и подчеркнуть свою независимость, они дистанцировались от общения и стали впоследствии представлять внушительную и опасную силу. Боевая выучка и опыт в проведении силовых акций, приобретённые эсерами и анархистами в ходе революционных столкновений, сдерживали уголовников. Они достаточно быстро поняли, что рядом с политическими надо или мирно жить, или хотя бы соблюдать нейтралитет.
Анархист Александр Николаевич Бакун после очередной стычки с уголовниками, когда его товарищи чудом остались живы, решил вести среди политссыльных занятия по боевой подготовке. Во время учёбы в Санкт-Петербурге он вступил в летучий боевой отряд анархистов-коммунистов, девизом которых был лозунг их идола Михаила Александровича Бакунина: «… не может быть революции без широкого и страстного разрушения … спасительного и плодотворного, потому что именно из него … зарождаются и возникают новые миры». Подготовкой этого отряда занимались опытные инструкторы. Они обучали начинающих бойцов приемам рукопашной борьбы, схваткам с использованием винтовок, револьверов, ножей, лопат. Воспитывали в учениках смелость и дерзость, тренировали их на выносливость. Ведение боя летучего отряда было основано на неожиданной и быстрой атаке короткими ударами рук, ног и любым оружием в наиболее уязвимые части тела.
– Бить надо первым и внезапно, сильно и быстро, не дожидаясь этого от противника, – учил Бакунин свою группу, в которую входили и женщины. – Если не ты, то он ударит первым, и тогда плохи твои дела. Отвлеки противника словом, уклоном, резким движением и ударь его в пах, горло, колено или солнечное сплетение.
Вера Брауде, посещавшая занятия по боевой подготовке, несмотря на своё «интересное положение», поморщилась, услышав про удары по глазам исподтишка. Что ей не понравилось в словах анархиста, непонятно. Она и её единомышленники – большевики, эсеры, анархисты шли путём революционного насилия, террора и разрушения, считая, что таким образом они противостоят произволу существующей власти. Главное в том, что насилие приведёт к революции, а значит и к построению нового общества, в котором не будет насилия!
1916 ГОД. ВЕРА БРАУДЕ. «ДИКАЯ КОМАНДА»
Вера Петровна Брауде, в девичестве Булич, родилась в тысяча восемьсот девяностом году. Дочь действительного статского советника, дворянка. До восьмилетнего возраста жила в семейном имении в деревне. После переезда семьи в Казань, поступила в женскую гимназию, из которой была исключена в третьем классе за строптивый характер и систематическое нарушение дисциплины. В институте благородных девиц, куда её определили родители для образования и воспитания, тоже надолго не задержалась – после отказа изучать Закон Божий и ходить в церковь была изгнана с мотивировкой «за антирелигиозные настроения».
В Казанской частной гимназии, куда Вера поступила для продолжения образования, она увлеклась идеологией марксизма, занималась организационной и пропагандистской работой в нелегальном большевистском кружке. В пятнадцатилетнем возрасте была первый раз арестована за антиправительственные призывы и участие в демонстрациях. После очередного ареста за изготовление, хранение и распространение нелегальной литературы была отправлена под опеку дяди, служившего земским начальником. Из-под надзора сбежала, но перед этим вместе с друзьями из местной организации РСДРП сожгла имение любимого дядюшки.
Работая в большевистских организациях с тысяча девятьсот пятого года, неоднократно подвергалась задержаниям, арестам, высылкам, репрессиям. После замужества, уже под фамилией Брауде, Вера продолжила революционную деятельность в Казани, Петербурге и Швейцарии, куда эмигрировала, сбежав из очередной ссылки. Там познакомилась с Лениным. Потом переехала в Париж, а в тысяча девятьсот четырнадцатом году вернулась в Россию. Вскоре снова была арестована, теперь уже за антивоенную пропаганду, и в тысяча девятьсот шестнадцатом году выслана в село Манзурка Иркутской губернии.
– Именно так, Вера Петровна, – горячился Бакунин. – Удары исподтишка в наиболее уязвимые места приносят победу в уличных схватках. Честная драка не всегда эффективна, а чаще до неё и не доходит. Вспомните, как убили нашего товарища на лесосплаве. Прохаживался и оживлённо беседовал с кем-то на берегу после работы (так до сих пор и не установили, с кем). Тот его по-дружески за плечо приобнимал. А через полчаса нашли с заточкой под рёбрами в кустах. И глаза песком запорошены.
Леонард усмехнулся: – А я-то думал, зачем у тебя табак с солью в кармане. Теперь понятно.
– Верно, Леон. Песок не всегда найдётся. А табак под рукой. Да и любой порошок подойдёт. Возьмите горсть песка, табака, соли или грязи и бросьте в лицо противнику. А следом – мгновенный удар в глаза, горло, пах, колено. Понятно это? А то ведь перережут здесь, как баранов, а нас там, на большой земле, родные ждут и товарищи наши боевые. Камень, кирпич, палка – это тоже оружие. А потом добивать по голове, да так, чтобы в кровь. … Да, да, уважаемая Вера Петровна, в кровь. Или мы их, или они нас.
Рассказывал Бакунин на этих импровизированных курсах о возможных вариантах нападения и защиты. Показывал и отрабатывал с каждым из товарищей применение различных видов ударов, как без оружия, так и с помощью любых попавшихся под руку предметов.
Уголовники знали об этих тренировках, насмехались над группой Бакуна, зубоскалили, называя её «дикой командой товарища Бакунина». Но вскоре всем пришлось убедиться в необходимости и справедливости его наставлений.
Спокойная жизнь сибирского захолустья была взбудоражена происшествием вполне предсказуемым и даже, в какой-то мере, закономерным, но как всегда неожиданным. В один из дней ссыльные закончили работу и собрались возле конторы для получения ежемесячного пособия и продуктов. Когда полицейские, представитель местной власти и работники конторы вошли в здание, к нему из ближайшего перелеска неожиданно подбежали люди с закрытыми лицами, вооружённые ножами и коваными прутьями.
Налётчики, судя по всему, заранее подготовились и действовали строго по плану: двое перекрыли входы, трое ворвались внутрь и быстро взяли под контроль помещения небольшой конторы. Угощавшихся чаем полицейских жестоко избили, разоружили и связали. Посетителей и персонал согнали в одну из комнат и положили на пол. Казалось бы, всё шло по плану злоумышленников. Пока двое складывали деньги и продукты в мешки в одной из комнат, третий обходил контору, помахивая ножом и избивая прутом пытавшихся встать или сесть испуганных людей. Неожиданно он подошёл к одной из работниц, забравшейся от страха под стол, и шёпотом заговорил с ней о чём-то. При этом незнакомец совершил роковую ошибку, встав спиной к заложникам.
Вера Брауде, оказавшаяся на полу вместе с другими заложниками, увидела, как лежавший рядом с ней лицом вниз Бакун приподнялся, снял с неё платок и успокаивающе покачал головой. Через несколько секунд бандит уже лежал за столом, задушенный скрученным в жгут платком. Кто-то из женщин приглушённо охнул, но хрипы и стоны избитых полицейских заглушали посторонние звуки. Бакун приложил палец к губам, дав понять оторопевшим людям, чтобы лежали тихо. Надев кепку и маску поверженного противника, с ножом в одной руке и металлическим прутом в другой, тихо, спокойно, без суеты вошёл в соседнюю комнату, где налётчики уже завязывали мешки с добычей, и молча вонзил нож одному из них сзади в шею чуть ниже основания черепа. Как он объяснил потом своим соратникам, это один из надежнейших способов бесшумного убийства.
Второй злоумышленник, так и не поняв, кто это только что молча, хладнокровно прикончил его друга, всхлипнул от ужаса, потянулся к револьверу за поясом и упал с разбитой страшным ударом кованого металла головой.
Вера, подняв оружие, жестами приказала всем оставаться на месте. Бакунин осторожно, прижавшись к стене, двинулся к выходу. Увидев вооружённого незнакомца, прислонившегося к косяку в проёме двери, тихо свистнул и когда тот повернулся, трижды выстрелил ему в живот. Упав на бок, грабитель закрутился на земле и завизжал дико, тонко, жутко, как недорезанная свинья. Позднее Бакун говорил, что специально пошумел, чтобы вспугнуть и выявить возможных соучастников среди людей, толпившихся неподалёку от конторы.
Четвёртого налётчика, с ужасом выскочившего из здания и петляя бежавшего в сторону леса, догнал и прикончил Леонард. Вера долго потом злилась на него, что он выхватил у неё револьвер и не дал самой пристрелить злодея.