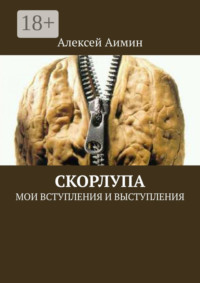Czytaj książkę: «Скорлупа. Мои вступления и выступления»
© Алексей Аимин, 2018
ISBN 978-5-4493-4467-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СКОРЛУПА
ОТ АВТОРА
Чтобы стать по-настоящему мудрым
надо не раз побывать в дураках.
(сам додумался)
В нашей жизни есть много хорошего и плохого, приятного и не очень. А главное – всегда есть что-то неизведанное.
Заявления некоторых самоуверенных граждан типа «я уже все видел» или «я уже все прошел» – глупая бравада недалеких людей.
У меня на этот счет у меня есть свое мнение:
куда бы ты в этой жизни ни шагнул, куда бы не свернул, – все равно куда-нибудь вступишь, вольешься или вляпаешься.
А иногда даже и поворачивать не надо, жизнь сама развернет так, что от тебя уже ничего не зависит.
Порой оглянешься в прошлое, и вспоминаются древняя поговорка:
«Все мы сильны задним умом».
И действительно, мы мудро и правильно рассуждаем, как нужно было поступить лишь тогда, когда изменить уже ничего нельзя.
Мой приятель как-то глядя на свою жену шепнул на ухо: «Если бы я знал чем все это кончится, я бы на первое свидание с ней не пошел…»
А вот более современная интерпретация известного постулата:
«Опыт – очень полезная штука, которая появляется через несколько секунд после того, как она была нужна».
И наконец, главная мысль в этой связке:
«Дурак учится на своих ошибках, умный – на чужих»
Чужой я вам или нет – вам решать, но ознакомиться с моим неполным личным делом, уверен, будет полезно и интересно. Тем более времена были тоже специфические, заодно и в них окунетесь.

Плакат времен перестройки 1986 год
Времена были непростые: пустой желудок, возбужденный разум. И хотя петь совсем не хотелось, песни прошлых лет часто вспоминались:
Как вихри враждебные взвились над нами, —
Так много чего наломали местами.
И мир, что проклятьем весь был заклейменный — Хотели мы сделать краснознаменным.
Стреляли, скакали и пели Гренада! —
Хотя и не знали, кому она нада.
Легко нам от песни всем было веселой, —
Пока процветали деревни и села.
В войну от Москвы мы шагали до Бреста —
Теперь не добраться до этого места.
Затем соловьи все будили солдата —
Теперь старшина и, отборнейшим матом.
И Ленин шагал впереди молодой, —
Хотя на портретах везде с бородой.
Потом все запели в семейном кругу, —
Про яблоки, что залежались в снегу.
Затем заталдычили все беспрестанно —
Про Жанночку, ту, что ну очень желанна!
Одни воевали, другие пахали,
А третьи под песни страну воровали,
Дождемся, – вновь шлягер пойдет на эстраде
Забытый — «Подайте нам всем христа ради!»
МОИ ВСТУПЛЕНИЯ
Армия болезных
Однажды, без малейшего на то желания мне пришлось влиться в отряд болезных людей. Точнее, это был даже не отряд не полк и не дивизия а самая настоящая армия. Половина – штатный состав, а вторая… Как бы это выразить подоходчивее?.. те, кто призваны как бы на «сборы». Прошел их, отчитался анализами и бегом на насиженное место. Главное уложиться во времени, чтобы это место не успели занять.
На своих первых сборах узнал много интересного. Например, что болезни бывают разные, и их количество так до сих пор никто так и не сосчитал.
Условно их подразделяют на установленные – с диагнозом, и не установленные – без такового. Те, что установлены, соответственно делятся на: хронические и не хронические; заразные и не заразные; смертельные и не смертельные.
Сами больные, те, кто еще способен шутить, подразделяют их еще и на приятные и неприятные.
К приятным, они относят чесотку: почесал – и еще хочется, к неприятным – геморрой.
Молодым и любопытным еще не знакомым с последней хворью, объяснять не буду – медицинской литературы полно да и жизнь еще долгая… познакомятся
Моя болезнь относилась к разряду интеллигентно-алкогольных. Это я заключил почти сразу по составу нашего кардиологического отделения. Здесь лежали и высокообразованные интеллектуалы, переживавшие за всех и все, и рядовые алкаши – плевавшие на все и всех.
Диагнозы, которые вписали в мою карточку, звучали солидно и заковыристо: вегето-сосудистая дистония, стенокардия, ишемическая болезнь и еще несколько болезней, названия которых я так и не смог прочесть.
Признаюсь, в моей голове всегда проживала мысль: нашим врачам в школе чистописание и правописание никогда не преподавали. Но то, что я получил инфаркт, я уже не сомневался, сомневались врачи или делали вид…
Я был определен в местную районную больницу, гордо носящую имя вождя мирового пролетариата. Владимир Ильич всегда опирался на самые бедные слои населения, в которые при социализме вошли и врачи. Под именем своего «благодетеля» брошенный на выживание медицинский персонал готовился к переходу точно в том же статусе из второго тысячелетия в третье.
Корпуса сталинской постройки давно требовали ремонта, а внутренний интерьер соответствовал моему представлению о земских больницах, описанных в рассказах Чехова и Булгакова.
В моей палате было восемь коек. Пролежал я там две недели, но никто из обитателей палаты в моей памяти не зафиксировался. Единственное, что мне запомнилось, что двое у окна постоянно читали, а двое у двери, постоянно храпели.
Все здешние обитатели считали себя временными пациентами и собирались сразу после курса лечения вернуться к прежней жизни. Алкашам, на мой взгляд, было проще, ведь там, в той относительно свободной жизни, их никто подсиживать не собирался, а в дешевых пивных места в основном стоячие.
Заведующим кардиологическим отделением, был статный доктор с оригинальной фамилией Кручина. Во время первого обхода он наметанным глазом оценил материальные возможности вновь поступивших больных. Из неоднородной массы доктор выделил меня как наиболее перспективного на платную операцию (позже я узнал, что ему шел неплохой процент).
Со знанием дела, просмотрев имеющиеся кардиограммы и прослушав стук моего «движка», он обрисовал мои перспективы. Но сделал он это как бы невзначай, проронив фразу, что, мол, с таким сердечком больше четырех лет я не протяну.
Мне стало слегка не по себе, но внешне на его пророчество я отреагировал спокойно. После этого наш главный доктор потерял ко мне всяческий интерес и при следующем обходе вообще не подошел.
Состояние мое было стабильно хреновым, и даже через две недели местными светилами еще не было установлено точного диагноза.
На всякий случай меня все же направили в Петербург для дальнейшего обследования.
Перед отправкой наш сердечный спец решил меня приободрить. При последнем обходе, он все так же, между прочим, вставил еще одну значимую для меня фразу: четыре года, это конечно, минимум, а максимум, на что я могу рассчитывать – лет двадцать.
– Это еще куда ни шло, – подумал я, прикинув, что при таком раскладе появляется надежда раскрутить родное государство на несколько лет пенсионного обеспечения.
Больница, куда меня отправили, находилась рядом с Финляндским вокзалом, примыкая к небезызвестной питерской достопримечательности, следственному изолятору «Кресты».
Добирался я туда своим ходом, медленным шагом с частыми остановками. Светло-желтые корпуса больницы контрастировали с красно-коричневыми стенами тюрьмы.
Проходя мимо высокого забора из красного кирпича, я увидел на дороге и тротуаре разбросанные бумажные самолетики. Их были сотни, и они валялись повсюду. От знакомых каждому школьнику эти летуны отличались оригинальной конструкцией, а к носику каждого был прилеплен хлебный мякиш.
– Голубиная почта, – потом объяснили мне старожилы больницы. – Отправляют в надежде, что кто-то подберет, и потом переправит адресату.

Кресты. Больничные корпуса в правом нижнем углу
Я так ни разу и не видел, как совершаются эти перелеты, однако понимал: чтобы преодолеть такое расстояние, «почтарям» нужны и стартовая высота и попутный ветер. Видимо их отправка происходила ночью с самых верхних этажей.
Здесь же я узнал, что значит выражение «дурилка картонная». Оно появилось после того как один из осужденных в тюрьме из хлеба и жеванного картона (картонной массы) слепил «ствол» – точную копию револьвера, и совершил побег. Черную краску он изготовил из жженой подошвы.
По сравнению с районной, городская больница была явно на высоте. Квалифицированные кадры. Более современное оборудование. Наличие лекарственных препаратов средней цены. В районной были только аспирин и дешевые нитраты. Отношение к больным было более внимательным, а еда более питательной. Буквально через пару дней я почувствовал себя лучше. Кардиологическое отделение находилось почти на самом верху – на пятом или на шестом этаже.
– Это проверочный тест, – говорили мне те же старожилы в больничном дворике, – если поднимешься в палату без помощи лифта, считай, – готов к труду и обороне.
После последних слов мне вспомнился значок ГТО с бегуном, устремленным в светлое будущее. Восстанавливая в памяти его образ, я засеменил к лифту.
Окно кабинета, где нам снимали кардиограммы, выходило на торец одного из тюремных блоков. Я лежал на топчане и наблюдал, как заключенные вывешивают из окон простыни на просушку, как на нитке передают между этажами спички, папиросы и свои послания. Там была одна жизнь, здесь другая – каждому свое, как говорили древние. Вернувшись в палату, я достал свою тетрадку, я записал:
Кардиограмма с видом из окна
в Крестах обед – сейчас баланду «глушат».
Жизнь здесь и там, лишь разница одна:
Здесь лечат нам сердца – а там калечат души…

Это нам: – Привет дохлятики
Это ощущение присутствовало только лишь в первые дни, когда соседство со следственной тюрьмой интриговало. Позже ее монументальный вид превратился в привычный пейзаж. К тому же окна нашей палаты выходили совсем в другую сторону – на набережную Невы, где в левой части панорамы сверкали купола Смольненского собора. Только-только наступили белые ночи, и, когда мне не спалось, я, как маленький, сидел на подоконнике и смотрел на Неву. Там под разведенными мостами проплывали самоходные баржи и сухогрузы. Шли они вереницами, сначала вверх по Неве, затем вниз.
С палатой мне повезло не только из-за этого прекрасного вида из окна, но и с обитателями. Соседом справа от меня лежал Корнеич, представившийся нам:
– Бывший жулик на заслуженной пенсии.
Свои подвиги он не скрывал и даже гордился ими. В далекие шестидесятые, когда народ был еще совсем затюкан моральным кодексом строителя коммунизма, Корнеич проворачивал такие дела, что три года по статье мошенничество, он считал семечками. Но это же был его вступительный взнос в организацию «ЛЮДИ ДЕЛА» и сейчас он о нем не жалел – экстерном два высших образования получил – юридическое и экономическое.
Одновременно с сердцем Корнеич лечил почки и печень, которые в период своих вагонно-контейнерных операций, спаивая чиновный люднещадно эксплуатировал. Выйдя на «заслуженный отдых», он стал следить за здоровьем, ограничивая свою деятельность высокооплачиваемыми консультациями. Новые русские ежедневно звонили ему на сотовый телефон, в то время бывший показателем респектабельности.

Некоторые модели в карман не умещались
А еще Корнеича регулярно посещала скромная миловидная супруга, лет на пятнадцать моложе. Как позже выяснилось, она была у него третьей. Прожив с ней почти двадцать лет и заполучив наследника, Корнеич сумел сохранить в тайне свое далекое прошлое.
Эта симпатичная женщина была уверена, что ее муж был крупным руководителем в одной из строительных компаний.
Документы у него были выправлены, и перед новой женой и перед новым государством Корнеич был чист.
Сосед справа был натуральным интеллигентом, о чем говорило и имя – Борис Натанович. Он зарабатывал на жизнь, преподавая иностранную литературу и филологию сразу в двух учебных заведениях и подрабатывая переводами статей зарубежных философов. Натанович не мог похвастаться столь яркой жизнью, как у Корнеича, был примерным семьянином со скромным званием доцента. С ним мне было тоже интересно: в своих рассуждениях он часто цитировал древних философов, например, Конфуция:
«Человек заболевает по многим причинам: некоторые заболевают от простуды, некоторые от усталости и горя».
Такие высказывания заставляли меня задуматься. В этом помогал потолок, по которому разбегались затейливые трещины. Я смотрел на него и обдумывал вторую половину жизни. С первой было все ясно:
Себя я к лучшей половине отношу,
Хотя особенно похвастать нечем,
Ну правда не курю я анашу
И без наколок грудь моя и плечи.
Еще вот у людей не воровал,
Я скромно промолчу про государство,
И по большому счету я не врал,
Лишен злых умыслов и всякого коварства.
Я в этой жизни никого не заложил,
Хоть числюсь балаболом, краснобаем
Вот так полжизни я своей прожил,
Что будет во второй – пока не знаю.
Отношения у моих соседей явно не сложились. Корнеич мне сразу сказал: если человек слишком правильный, то это ошибка природы. А так как они случаются крайне редко, то большая часть нынешних праведников – это лжецы и притворщики.
– От этого им и живется не сладко, – заключил он, кивнув в сторону Натаныча, – вон видишь какой угрюмый, неудивительно – всю жизнь на минералке. Натаныч тоже не отставал. Как-то явно намекая на своего главного оппонента, он процитировал Губермана:
Любил я книги, выпивку и женщин.
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен.
На книги даже не хватает сил.
У Корнеича опухали ноги. Однажды его заставили в течение суток подсчитать количество употребленной жидкости и вышедшей из организма естественным путем. Научная ценность этого эксперимента Корнеичем была подвергнута сомнению:
– Видимость работы, – резюмировал он, отставляя горшок, – надо же показать, что не зря им деньги платят.
Но все же медперсонал здесь был достаточно квалифицированный. Давать оценку врачам, имея строительное образование, не берусь, но медсестры были на высоте, Особенно по части уколоть.
Лучше всего это получалось у сестрички Тани. Ей было слегка за тридцать, красавицей не назвать, зато остальное было на все сто!
Татьяна, нагло издевалась над нашей братией, – носила самый короткий халатик и, как бы случайно забывала застегнуть на нем верхнюю пуговку.
Как мы потом узнали, все это было предназначено для нерешительного сорокалетнего врача нашего отделения Николая Павловича, благодаря которому эти эффекты перепадали и нам. Когда Таня ставила капельницу и наклонялась, чтобы ввести в вену иглу, все мужики замирали и задерживали дыхание.
– Психотерапия, – со знанием дела пояснил Корнеич, – дополнительный адреналин в кровь… и косвенные показатели выздоровления поднимаются на глазах.
Отец у Тани был подводник и команда к пуску торпед:
«Товсь!»
перекочевала в ее лексикон. Мы с удовольствием подчинялись, скромно оголяя места для торпедирования.
Свои личные ощущения, испытываемые во время таких процедур, я выразил все в своей тетради в поэтическом виде:
У медсестрички
легкая рука.
И ноги, кстати,
тоже неплохие,
Ах, как вернуть мне времена лихие,
и улететь бы с ней за облака…
Под капельницей
только и мечтать
И вот под взглядом
под ее сугубо штатным —
Уже лечу! лечу уже обратно
и падаю в больничную кровать!
– Чем писать вирши с такой пессимистической концовкой, ты бы лучше поприжал ее в каком закутке, – посоветовал мне Корнеич. – Эх, был бы я помоложе…
– Перпетуум-кобеле, как и перпетуум-мобиле, не существует, – с ехидцей встрял в наш разговор Борис Натанович. Мне вообще, ваши сальные разговоры противно слушать.
– Во сухарь заумный, – проворчал Корнеич, – можешь уши заткнуть, если не нравится.
Нам с Корнеичем было назначено по сорок инъекций в живот – тромбы растворять. Уколы четыре раза в день ровно через шесть часов. В 6 утра первый и в 12 ночи последний. Процедура не очень приятная, но при умении медперсонала сносная.
Животы наши пестрели мозаикой сине-желто-зеленых цветов.

ТОВСЬ!
Однако вскоре нам пришлось испытать на себе, как легкая женская рука может превратиться в очень тяжелую.
Накануне наши врачи отмечали день медицинского работника. Галантный Корнеич даже умудрился достать цветы. Медперсонал отмечал свой праздник ничуть не хуже слесарей нашего ЖЭКа в день коммунального работника. А что, врачи они тоже люди…
Мы же под шумок нарушали режим и смотрели футбол – шел чемпионат мира. Ближе к полуночи, я обратил внимание, как Татьяна с трудом вела Николая Павловича в ординаторскую. В обычные дни они туда заходили по отдельности, точнее, Таня ныряла тайком, стараясь не привлекать внимания.
Но я же не мальчик, чтобы обращать внимание, – увидел и забыл.
Однако вспомнил я об этом буквально через несколько часов. В шесть утра к нам с утренним уколом пришла Таня. Она строго взглянула, и я привычно задрал футболку. Садистский укол застал меня врасплох. До сих пор удивляюсь, как я не вскрикнул, а только мыкнул и сжал зубы.
Таня быстро перешла к моему соседу. У Корнеича, получившего такой же предательский удар «под дых», расширились глаза, он охнул и взглянул на меня. Я вздохнул и пожал плечами.
Таня ушла, а я рассказал ему об увиденном вечером.
– Ну, Николай Палыч. Ну, садист! До чего женщину довел! Нет, ну не мог собраться? – возмущался Корнеич. – А ты тоже хорош, не мог прочувствовать ситуацию и вовремя доктору плечо подставить?
– Так вам и надо, тоже мне знатоки женских душ. Женщина такая загадка, что с вашими умишками ее никогда не разгадать – съехидничал Борис Натанович.
Корнеич скорчил в сторону оппонента гримасу отвращения и пошел разведать по части предстоящего завтрака.
Выписка
Я лежал, и, глядя в потолок, думал. Жизнь меня часто била, и я все чаще думал о том, что в ней что-то неправильно. Мне было обидно за свою страну. Я жалел наш многострадальный народ, а вместе с ним и себя, ведь у меня и дома были сплошные передряги. Жена меня считала дураком и неудачником, о чем постоянно напоминала.
Когда же чувства недовольства собой и внешним миром переполняли, я вымывал их традиционным методом, оправдывая себя тяжестью навалившегося креста:
Решил я жизнь через себя всю пропускать,
Через себя ее превратности фильтрую.
Но, пропущу как дрянь, потом другую
И надо фильтры срочно промывать.
Обычно на промывку у меня уходило 2—3 дня, и вряд ли моему организму это нравилось. Так что причина моей сердечной болезни была комплексной. Может потому хоть в компании интеллигентов хоть алкашей я проходил, как свой парень.
Через неделю моя посредническая роль закончилась. Корнеич, получив поддержку загнанному организму, выписался. Перед выпиской на папиной машине заезжал сын, студент первого курса университета, доставивший конфетно-коньячный набор для медперсонала. На прощанье Корнеич рассказал анекдот:
Встречаются два вождя африканский и американский. Африканский спрашивает:
– А как у тебя с еврейским вопросом?
– Да никак – у нас их нет
– А я своим сколько не вдалбливаю, что евреи тоже люди – не едят и все!
После чего посмотрел на меня:
– Ты-то не еврей?
– Некоторые считают, что он самый, а я и не разубеждаю.
– Да нет, мозги на уровне, но начинка не та – не приспособленец.
Хотя «обертка» это тоже много – ты и не признавайся. Но время быстро меняется и фантики не спасут. Тут скорлупа нужна и покрепче.
– Как у греческого ореха?
– Лучше как у кокосового.
– Учту. Уже тренируюсь – и чуть подумав, прочел экспромт:
Натанович вовсю грызет орехи –
их у него коробочка полна.
Ну а в моих карманах лишь прорехи —
За что меня всю жизнь грызет жена!
Корнеич хохотнул и хлопнул меня по плечу:
– Наши-то тебя не съедят. У нас к талантливым людям с уважением относятся – на них бабки можно заработать. У вас мозги особым способом устроены. Раньше ведь талант в Древней Греции денежная единица была – 37 кг серебра.
Вот посмотрел как ты вчера в коридоре взвешивался – 74 кг.
Я еще сразу подумал – ровно половина это талант, а остальное отходы.
– Г… что ли?
– И оно тоже… Ты нашу власть любишь? Нет. Вот, когда про нее писать будешь оттуда и черпанешь. Ты мне лучше скажи, у тебя ведь есть свои убеждения?
Я кивнул.
Он посмотрел на меня внимательно:
– А вот власть таланты не любит, особенно тех, кто имеет свои убеждения. Ты их имей, имей, но не выставляй особо.
И с такими, как наш сосед по палате поосторожней. Интеллигенты бывают двух видов – вшивые и гнилые. Они ведь как – устроят революцию, а потом сами друг друга сдают по одному, надеясь что до них очередь не дойдет.
А наши люди как и божьи люди никогда в первый ряд не лезут. У нас, как и у них свое откидное место рядом с престолом. Потому мы при любом раскладе наверху. А светиться нам совсем ни к чему, это политики и поэты хотят чтоб о них потомки помнили.
Так что при особом случае разрешаю на меня сослаться, что мол с «Пломбой» знаком. Эту кликуху мне дали когда я придумал как на вагонах пломбы незаметно вскрывать.
Он обвелвзглядомпалату:
– Все! Бывай!
И давай скорлупу наращивай.
После выписки шебутного Корнеича стало пустовато и тихо даже в коридорах.

Тихо…
Теперь общение шло только с соседом слева. Я почитал Борису свои стихи, он со знанием дела покритиковал их:
– Ну, вот смотри, прочитай последнее. Последнее было навеяно приевшимися процедурами:
Мое тело тревожат врачи,
Забывая, что тело чужое,
Ладно, там уж анализ мочи,
Кровь опять забирают на РОЭ.
В тело вновь проникает игла,
Ну а я:
– Может, хватит? Доколе?
Нехорошая мысль вдруг пришла:
Не отпустят, пока не заколют!
В голове переборами мат,
А они мне:
– Для пользы! Для дела!
Буйный нрав загоняю я взад!
Взад – в свое решеченое тело.
– Ну и кому твои страдания нужны? А что такое РОЭ, ты ведь, наверняка, сам не знаешь. Может Российская организация эгоистов? – он улыбнулся своей, как ему показалось, удачной шутке, – Нет, стихи должны быть возвышенными. Они должны вдохновлять людей, вселять надежду.
– На светлое будущее?
Он, не почувствовав моего прикола, кивнул
– И на него тоже.
Правда, его последняя фраза была оптимистичной:
– Давай дерзай дальше – должно получиться. Мы еще тобой гордиться будем!
Борис Натанович тоже поделился со мной своими проблемами. За последний год он написал ряд критических статей. Кто-то нашел в них индивидуальный стиль и нетрадиционный взгляд.
Тут я решился прочесть парочку своих прозаических зарисовок и покритиковать если можно.
ПАРАДОКСЫ ВРЕМЕНИ
Они дружили с детства. Одна была яркая и красивая,
вторая же была просто дурнушка.
На её фоне первая становилась ещё краше.
Но они как-то странно дополняли друг друга.
Дружба их продолжалась и когда они стали мамами,
и когда стали бабушками. Наступил момент,
когда этих двух старушек, сидящих на
скамейке в сквере, все принимали
за родных сестёр.
И уже невозможно было определить, кто из них в молодости была красавицей а кто дурнушкой.
ВОТ ТАКОЙ НАЧАЛЬНИК
Начальник вызвал одного из своих заместителей и сказал
– Я тебя увольняю!
– За что? – изумился тот, – я же никогда
вам не перечил и выполнял все ваши поручения.
– Формулировку выбери сам: либо ты дурак и не замечаешь моих ошибок, либо подлый человек и ждешь, когда я прогорю,
чтобы занять мое место.
Умный был начальник…
– Про старушек ты сносно сопли размазал, а вот про начальника загнул. Где же ты видел таких начальников? Они при советской власти должны были всего на три извилины умнее подчиненных быть. Могут заподозрить западную ориентацию.
Так что пиши лучше стишки про медсестер – это не так опасно.
– Ну и про кухарок и печников – подумал я про себя.
Дальше Натанович рассказал, что ему аж два редактора литературных изданий посоветовали вступить в какую-нибудь писательскую организацию или прямо в Союз Писателей.
Теперь вот он размышлял, куда же направить свои стопы?
Союзов писателей в Питере оказалось целых два, как он сказал один буйный, другой степенный. А еще обнаружился десяток литературных объединений, которые выросли на озвученной в свое время свободе слова.
– А я бы ни в какой союз не вступал. Всеми этими союзами, партиями, объединениями, и прочим я давно уже сыт по горло.
– Вот так? – удивился Борис Натанович, – и почему же?
И тогда я поведал ему свои впечатления от поворотов моей не слишком удавшейся жизни.
– Здорово, – сказал он, – тут можно целый рассказ написать или даже повесть. Слушай, если я когда-нибудь надумаю, можно мне это за основу сюжета взять?
– Можно, – не задумываясь, ответил я, и мы пошли ужинать.
Получив предупреждение от врачей о том, что теперь меня в любой момент могут вызвать на очередные сборы, я был выписан. Довеском шло бодрящее душу заверение, что мое сердце мне прослужит до последнего дня.
Чуть позже я пожалел, что с такой легкостью дал Натановичу такое разрешение? И чего это я? Сам, что ли, не могу свою историю людям поведать? По литературе ведь у меня всегда было пять, а запятые мне любой корректор поставит. И я написал.
Darmowy fragment się skończył.