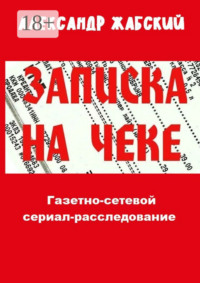Czytaj książkę: «Записка на чеке. Газетно-сетевой сериал-расследование»
© Александр Жабский, 2023
ISBN 978-5-0060-3064-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моим внукам Машеньке и Ярославчику посвящается
«Бог или природа, – я уж не знаю, кто, – дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего».
Александр Куприн.
1. СТРАННАЯ ПРИВЫЧКА
У меня есть странная привычка. Я понимаю, что она странная, если смотреть со стороны, хотя если изнутри меня – вовсе не странная, а очень полезная. Я не выбрасываю ни клочка писчей бумаги. Если осталась половина листа, делю её надвое, на четвертушки, если меньше – выкраиваю одну четвертушку. Эти четвертушки я складываю в стопку и использую их для пометок, составления списка покупок, записи номеров телефонов, номеров поездов и времени их прибытия и иной информации, если мне звонят и надо что-то записать для памяти. Стопка четвертушек, нижние из которых уже немного пожелтели, так как востребованы нечасто, лежит на моём секретере, рядом – ручка, так что я всегда во всеоружии.
Я думал всю жизнь (а странная привычка завелась у меня с незапамятных времён, чуть ли не с детства, со школьных лет уж точно, только тогда я сберегал не белые листы для принтеров, на которых все пишут сейчас, а тетрадные; четвертушки выходили поменьше, но служили своей цели исправно), что эта странность присуща только мне. Но однажды, сравнительно недавно, лет 15 назад (с возрастом время сжимается, как расстояние – по мере технического прогресса), случайно прочитал, что точно такую же странную для окружающих привычку имел Лев Толстой. Ну, если нас таких уже двое с Толстым, то это привычка не то чтобы странная, а скорее, редкая. Хотя я ведь не знаю интимные отношения остальных пишущих с инструментами письма – может она и не редкая вовсе, а просто не слишком распространённая (как и сама пишущая часть человечества).
Всё это я рассказываю только для того, чтобы поведать о ещё более странной привычке, свойственной моему знакомому Андрею Большакову. Он не может заставить себя выбросить ни один магазинный чек! Я не раз наблюдал, как он мучается, если это всё же приходится делать, когда чек оказывается измятым. Он долго не решается к нему прикоснуться, потом, переборов себя, мнёт ещё больше, а затем методично разрывает на микроскопические лоскутки – и только после этого выбрасывает бело-серую труху в мусорное ведро под раковиной на кухне. Ясное дело, это нелепо: у меня все чеки вечно помяты в карманах – если их, конечно, туда машинально сую, ибо вообще-то выбрасываю в магазине: мне ведь не перед кем отчитываться о расходах.
Андрею тоже не перед кем. Вернее, теоретически от него могли бы потребовать отчёта жена, но ей это и в голову не приходит, поскольку добытчик-то он, что очень и очень благоразумно. Тем не менее, выходя из магазина Андрей с особой тщательностью складывает полученный от кассирши чек, а дома первым делом бережно его извлекает, отрезает ножницами случайно измятые уголки, а затем аккуратно ставит стоймя в картонку, сделанную из молочной коробки давным-давно – я уж и молока такой марки сто лет в продаже не видел. На боковой стенке коробки висит шариковая ручка. Спросите, зачем? А с той же целью, что и моя лежит на секретере рядом со стопкой бумажных четвертушек.
Да-да, Андрей делает свои пометки и записи на обороте магазинных чеков! Ну, во-первых, по той причине, что писчая бумага у него в доме не водится – не письменный он человек, а во-вторых, ему представляется, что так много удобнее.
– И что же ты пишешь на своих чеках? – не раз спрашивал я насмешливо у него, получая один и тот же ответ:
– Что надо, то и пишу!
Да те же поди списки покупок, идя в магазин, или какие-нибудь нужные телефоны. Правда, однажды, много лет назад, я видел, как на обороте старого чека писал его сын-пятиклассник. И эта была записка отцу, что его вызывают в школу. Сам он поведать эту «радостную» весть папаше не решился, а предпочёл изложить её письменно на выдернутом из молочной коробки листке и ускользнуть из дому, от греха, одновременно со мной, когда я зашёл к ним за… нет, теперь уж не вспомню, но явно за чем-то важным.
А вот на сей раз я хорошо помню, чего ради к ним зашёл.
– Лена, – окликнул я жену Андрея, открывшего мне дверь, бросившего, глотая гласные, «проходи» и умчавшегося в гостиную, где в телике гремел футбол, – тебя можно использовать как женщину?
– Ну, давай, пробуй, – вышла она в прихожую из кухни, где жарила, судя по запаху, котлеты, и стала снимать фартук. – Этого достаточно, – уточнила, бросая его на стиральную машину, которая у них «припаркована» в коридоре, – или сразу и остальное?
Я промолчал, и она расстегнула верхнюю пуговицу домашнего платья-халата.
– А ничего, что Андрюха дома?
– Даже здорово! – показал я ей, как теперь говорят по-заморски, «лайк» вместо прежнего русопятского «на ять».
– Андрей! – протяжно крикнула она и расстегнула вторую пуговицу.
– Чего? – недовольно высунулся тот из двери в гостиную правой частью лица, продолжая левой следить за происходящем на телеэкране.
Лена тем временем расстегнула и третью пуговицу. Правый глаз Андрея расширился, а что там было с левым – зажмурился или захлопал ресницами, мне было не видно.
– Ты чего раздеваешься, мать?! С дуба рухнула?
– Да вот Саша сказал.
Они лет на 8 примерно младше меня, но тоже давно не молоденькие. Так что, с одной стороны, никакие шутки их уже не шокировали, но с другой – не всегда воспринимались как шутки.
– Хочу твою жену использовать как женщину, – пояснил я.
– А-а, это сколько угодно, – индифферентно махнул рукой Андрей. – Я-то уж думал.., – и стал втягивать правую половину лица на воссоединение с левой.
– Нет, постой уж! – тормознул я его. – Вы мне оба нужны. Вы люди молоденькие…
– Не понимаю, – перебила меня топтавшаяся в нерешительности Лена, – мне дальше-то снимать халат или можно сбегать посмотреть котлеты – ведь пригорят же?
Я втянул носом воздух: однако вкусные шельмы! Старый повар, я по запаху пищи могу точно сказать, насколько она вкусна – и при этом сам котлеты путёво жарить так и не научился.
– Давай!
– Так чего ты хотел? – спросил нетерпеливо Андрей. – А то наши играют…
– Поставь на паузу – потом досмотришь.
У них интернет-телевидение, так что всегда можно прерваться, а то и отмотать назад.
Андрей, глянув на меня досадливо, скрылся в гостиной, и через несколько секунд телевизор умолк. Потом мы с ним прошли на кухню. Лена заварила свежий «Ахмад» – у нас тут с ними вкусы одинаковы, хотя Лена всё же больше любит кофе. Достала пиалушки, поскольку мы одного, туркестанского происхождения, только я ташкентский рожак, а они из Ферганы.
2. ХРУСТ ФЕРГАНСКИЙ
Если вам вдруг показалось, что зачин моего нового публицистического сериала беллетризован, то вы ошибаетесь. Ну, может самую чуточку, ибо описываемые события происходили три года назад и не каждую фразу я помню в точности. Хотя их содержательная часть документальна.
Собственно, в Фергане мы некогда и познакомились, когда я служил в республиканской газете «Комсомолец Узбекистана». Причём, сперва я познакомился с Леной, которая работала в ферганском горкоме комсомола, а потом, когда она вышла за Андрея, работавшего в «Ферганке», как мы называли «Ферганскую правду», и с ним. Он застал ещё самого великого Валеру Антипина, ответсека, у которого подвизался метранпажем. Метранпаж это выпускающий, а кому и сие не понятно, то тот работник секретариата газетной редакции, который торчит в типографии и направляет работу верстальщиков номера, координирует её с секретариатом.
– Ты помнишь, старик, как покойный Валера чертил макет будущего номера? – спрашивал он меня временами, и от этого накатывало тепло.
Да как же не помнить! Работал он стоя. Не признавал специальных бланков для макетов. Брал гранки и свежий номер газеты. Отмерял строкомером прямо на остро пахнущих полосах пространство каждой будущей публикации и обводил его синим карандашом, а место фотографий – красным. Он видел завтрашний номер, как архитектор видит будущее здание, уже построенное в его воображении. Это феноменальное качество, и больше я ни у кого из даже прекрасных ответсеков его не встречал.
Валера отдавал расчерченный таким образом номер газеты дожидавшемуся тут же метранпажу и говорил:
– Я под «Нурхоном».
Кинотеатр «Нурхон» стоял прямо напротив редакции «Ферганки», которая сохраняла в 70-х свой интерьер чуть не с довоенных времён. Уставленная фикусами и пальмами, со старыми, но прочнее новых шкафами и прочей, как теперь бы сказали, винтажной мебелью, которой сносу не было, она была настолько всеми нами любима, что и не передать. «Нурхон», в отличие от неё, был модерновым, хотя я никогда в нём не был нигде, кроме буфета в цокольном этаже, где продавалось прекрасное пиво. Вот туда и шёл обычно Валера, а если засиживался с ташкентскими, как я, гостями, то туда же ему метранпажи приносили из типографии и оттиски свёрстанных тем временем полос завтрашнего номера. И Андрей, помнится, приносил. И принёс бы не только в «Нурхон», но даже и в Маргилан – настолько после виртуозного Валериного макетирования все тексты точно вставали на предназначенные места, что я не помню случаев их сокращения – пара-тройка строк на полосе не в счёт.
Любили мы «Ферганку» и за особый дух романтичных 20-х годов, витавший в ней и в моё время. Только там – в единственной на весь Узбекистан газете – платили гонорар авансом! Конечно, только проверенным авторам, но было именно так. Помню, как всё не верил в это мой приятель Вадик Носов из «Пионера Востока», ставший через полтора десятилетия, когда незабвенная Ольга Игоревна Грекова отошла от руководства «Пионерской правдой», многолетним редактором «Пионерки». И вот однажды, а именно летом 76-го, мы вместе с Вадиком, каждый от своей газеты, поехали на республиканский финал «Зарницы», проводившийся как раз в Фергане.
Сразу по приезде, едва кинув в гостинице свои вещи – Вадик сумку, а я – дежурный чемоданчик, который всегда стоял у меня наготове дома в прихожей, отправились в «Ферганку». Редактора Агеева я хорошо знал – дорожку в редакцию и к её шефу мне протоптал много раньше, когда мы ещё оба служили в газете ТуркВО «Фрунзевец», мой незабвенный учитель, лучший ташкентский репортёр той поры Лев Александрович Савельев, так что, захватив по пути Валеру Антипина, сразу отправились к нему. Рассказали, зачем приехали.
– Отлично! – обрадовался Агеев. – А то тема важная – военная патриотика, осветить обязательно надо, а у нас летом народу раз-два и обчёлся – полредакции в отпусках. Так что по пять материалов с вас, парни: сразу сколько успеете, а остальное из Ташкента дошлёте. Валера, – обратился, он к Антипину. – посчитай по хорошей ставке.
– Да что считать, – пожал плечами Валера. – За каждый материал по пятнадцать рублей: оператив, да и очерковость.
Агеев снял трубку и позвонил в бухгалтерию:
– Сейчас ташкентские журналисты подойдут – заплатите им по 75 рублей каждому. Да, паспорта у них, конечно, с собой – в командировку же приехали. За одно и печать им поставьте на командировочные удостоверения. А я приказ чуть позже подошлю.
У Вадика отвисла челюсть. Когда мы, вышли и Валера повёл нас в бухгалтерию, он изумлённо шепнул мне:
– Что, правда, что ли?
– Сейчас услышишь хруст ферганский.
Через десять минут у каждого из нас в кармане лежало по половине месячного оклада. Вадик, у которого только-только родилась дочка Вероничка и деньги были особенно нужны, никак не мог поверить в такое счастье. И мы с ним дружно отправились под «Нурхон», куда обещал позднее подтянуться и Валера, а потом пару раз забегал с новыми полосами и Андрей.
Разумеется, мы с Носовым отработали своё обязательство сполна, сдав последние материалы в день отъезда, так что из Ташкента и слать ничего не пришлось. Потом Вадик вот так же писал для «Ферганки» однажды уже без меня. А в сентябре 76-го уехал навсегда в Москву – в столь ему желанную «Пионерскую правду». А я, отлежав месяц в кардиологии больницы Узминздрава, которая по старинке в народе именовалась «шестнадцатой», с рецидивом ревмокардита, заработанного первокурсником на хлопке 69-го, вскоре опять потягивал с Валерой Антипиным пивко под «Нурхоном» на только что полученный в «Ферганке» очередной приятный аванс.
3. КОНЬЯК ПОД КОТЛЕТКИ
Чай в пиале это вовсе не то, что в чашке или, как теперь чаще его потребляют, в кружке. Посуда и есть посуда, скептически скажет кто-то, но мои земляки лишь усмехнутся. Чай в пиале – это чай, как сказали бы математики, по модулю, то есть величина абсолютная. В чашку с чаем кладут ещё сахар, лимон и варенье, кто-то даже плеснёт и коньяк – так ведь чашка это всего лишь сосуд, вместилище, ёмкость, всё стерпит. А вот пиала!..
Я уже 36 лет обитаю в России, куда уезжал в конце 83-го всего, как мыслилось, на пару лет, а оказалось, что, видимо, навсегда. Я оставляю это «видимо» как эфемерный крепёж мечты однажды вернуться в Ташкент и дожить там свой век. Вряд ли это удастся, но как сладко мечтать перед сном, в те мои самые любимые в сутках полчаса, когда я уже в постели, но ещё не уснул.
Вот я русский, в России живу с поздней молодости, а она так и осталась чужбиной. Тут всё не моё, не по мне, ко всему я приделываюсь искусственно, как к протезам, лишь в силу умений, сноровки, терпения, но органично прирасти не выходит. Я туркестанец, потомок так называемых «старых туркестанцев», кто пришли в Мавверранахр полтора столетия назад, завоевали его, чтобы не достался британцам, а потом, полюбив самозабвенно, навечно в нём растворились и носят в себе, где бы ни были.
За все эти годы я так и не «обрусел», сохраняя привычки, манеры, домашний обиход туркестанца. И только в одном – что касается чая – я отступил и смешался со здешними. У меня нет пиал, я пью чай из кружек, причём давно уже чёрный, кладу в него сахар, лимон и варенье, а изредка – даже коньяк. А вот в доме Большаковых и этому не поддались, за что я их очень ценю! Приходишь, и Лена заваривает «Ахмад» в чайнике из привезённого с родины сервиза «Пахта», который они не держат в серванте или как там это теперь называется, а пользуются им повседневно. Вот только одна пиалушка треснула, и её больше не трогают – а чегачи, чтобы починить, в Питере днём с огнём не найдёшь, не в Узбекистан же везти, да и там они выжили вряд ли…
А я ещё помню, как в 50-х на Алайском базаре Ташкента чегачи творили чудеса, скрепляя намертво черепки чашек и чайников медными скобами – и ни капельки не просачивалось. Да и не только на Алайском! А на Бешагаче какой был сказочный мастер, а? Ташкентский журналист уже совсем другого поколения – наших творческих «внуков» – Бахтиёр Насимов напомнил как-то в печати, что тот корпел над черепками в крохотной мастерской в одной из колонн монументальных ворот Бешагачского базара. Уточню – в правой, если смотреть снаружи, с улицы 9 Января, а дверь в мастерскую была изнутри базара. У папы среди чегачи водилось немало знакомцев, и мы заходили в их мастерские, как и в эту, конечно, на Бешагаче, когда там бывали; папа вёл разговор, а я восхищённо любовался их непревзойдённым мастерством.
Теперь треснутая пиала Большаковых стоит в кухонном шкафчике за какими-то банками, чтобы окончательно не доконать. А мы пьём чай из целых пиал, помнящих ещё Фергану. Как они только их оттуда вывезли, не разгрохав?! Они уезжали в Россию уже при Костине – был такой перекати-поле одно время редактором достославной «Ферганки», которую прежде любили и уважали все, а не только русские читатели – у неё и тираж потому был самый большой среди «областнух». А этот партийный засланец откуда-то из Воронежа, толком не разбираясь в тонкостях межнациональных отношений в Ферганской долине – естественно, очень запутанных, в период смуты в Кергули, когда в 89-м случились кровавые столкновения с турками-месхетинцами, повёл себя дуболомно, чем навлёк на редакцию гнев националистов. Большаковы рассказывали, что дело дошло до того, что «Ферганку» на долгие месяцы взяли в защитное кольцо военные…
Видя, что с таким редактором можно запросто загреметь под фанфары, Андрей с Леной, тоже, как и я, коренные туркестанцы, уехали в Ленинград, к родственникам – переждать смуту. Но обстановка вокруг редакции не улучшалась, а горкома комсомола попросту после чудного «мустакиллика» не стало, и они застряли в Питере накрепко. В их квартире в Фергане, которую им дали после женитьбы в ведомственном доме напротив редакции, у «Нурхона», жил всё это время брат Андрея, и потому там всё их имущество сохранилось. Уже после бегства Костина из Ферганы они съездили домой и несколькими контейнерами вывезли вещи, а квартиру оставили брату. А в Питере родные помогли им, ставшим к тому времени «челноками» и кое-что подзаработавшим на финском, польском и турецком барахле, купить затрапезную квартирёшку в Купчине. Там они и укоренились. Там и сын их родился по имени Коля – долгожданный, когда оба родителя уже и отчаялись обрести потомство. Там же, когда в 5-м году в Питере объявился и я, они рассказали мне о смерти Валеры Антипина – от сердечной, кажется, недостаточности.
– Ну, излагай, – присловьем моего незабвенного учителя Льва Савельева, которого мы с Андреем оба любили – да что там, его обожала вся творческая Фергана, поднял глаза тот от исходящей ароматным паром пиалы.
– Дело весьма щекотливого свойства…
Большаковы поставили разом пиалы, обозначая внимательную серьёзность. Лена даже застегнула верхнюю пуговицу платья-халата, до которой, за котлетами, так и не добралась. Котлеты, кстати, по её рецепту, уже томились после жарки в кастрюле, обмотанные пуховым платком.
Я встал и повернулся к ним спиной.
– Ну и? – спросил Андрей.
Я слегка наклонился. Ребята загоготали.
– И где это тебя угораздило? – спросила, прикрывая рот ладошкой, Лена.
– Да если бы дома, то ладно: переоделся б – и все дела. А то ж в вашей «Пятёрочке», когда едучи к вам забежал вот за этим, – я достал из пакета, который не выпускал из рук, бутылку 5-летнего грузинского коньяка «Галавани» и поставил на стол. – Там был и 8-летний, но уж больно дорогой – не для нас, пенсиков. А этот они, черти, выставили на второй полке снизу, поскольку нынче приличная скидка, чтобы в глаза лезли всякие дороженные «Метаксы» да «Хеннеси» с «Мартелем» – маркетинг у них такой, долбаный. Я нагнулся цену прочитать – и тут треск.
– Ну, хорошо, Лена зашьёт.., – Андрей осёкся и посмотрел на жену. Та кивнула. – Лена зашьёт, – сказал он теперь совершенно уверенно. – Но я-то тебе зачем? Смотрел бы себе футбол…
– А я сидел бы перед Леной без штанов?
– Экая невидаль, – повела головой Лена. – Дай ему свои джинсы, что вчера постирала, – велела она мужу. – Дуйте в гостиную, а эти потом принесёшь, – уже мне, – я машинку пока настрою.
– Коньяк под котлетки – это, брат, очень недурственно, – звенькнул, вставая, Андрей ногтем по принесённой мною бутылке. – Только редко ты к нам приезжаешь, как в своё Колпино смылся.
– Внучок, – развёл я руками.
– Понятно, – кивнул Андрей. – Мы вот теперь с Леной тоже у Кольки с женой в услужении.
Лена быстро восстановила целостность моих некстати лопнувших сзади по шву штанов, и мы снова сошлись на кухне.
– Развёрстывай, – как старший, велел я Андрею, откупорив коньяк.
– Я такого ещё не пробовал. Ничего? – он принюхался к горлышку, кивнул одобрительно и разлил золотистую жидкость по приземистым широкопузым бокалам. – Помянем Валеру?
– И Савельева тож, – добавил я.
– Ну, дядю Лёву – эсэс, – так в нашем кругу аббревиатурили выражение «само собой». – И всех.
«Всех» наших общих – а это не «все» мои! – тоже уже накопилось немало: старые больно мы стали.
Выпили. Закусили сумасшедше вкусной Лениной котлеткой. По локтям побежало тепло – признак хорошего коньяка.
– Вот чёрт, сейчас же Вовчика привезут! – спохватился Андрей. – Путём и не посидишь… Сегодня ж суббота, а Колька-Валька с друзьями намылились завтра по грибы. Слушай, что Вовчик чудит – всего-то три года, а туда же… Нет, сперва во второй!
Теперь уже чокнулись, и пошли бесконечные разговоры о внуках.
– Ну, дедов понесло! – иронично, но одобрительно сказала Лена и встала. – Пойду делом займусь, не то правда Коля с Валей вот-вот нарисуются.
– Тебе оставлять? – приобнял её за талию Андрей, покачав свой бокал, только что вновь наполненный на четверть коньяком.
– Вы оставите, как же!
Она хлопнула его по поредевшей седой макушке и вышла из кухни, прикрыв за собой дверь.
Она была всё такой же стройной, как в день нашего знакомства, но годы, конечно, подрихтовали и её по своему шаблону. Тогда, в 77-м, она только закончила «Низами», как у нас называют для краткости Ташкентский пединститут имени Низами, теперь уже, кажется, переименованный. Или нет? Похоже, нет, если в сквере перед ним убрали прекрасный конный памятник Фрунзе и поставили скульптуру азербайджанского поэта – её, помнится, открывали тогда ещё вполне живые Ислам Каримов и Гейдар Алиев. Ну, и хорошо, если нет – к «Низами» все за десятилетия привыкли.
Лена закончила дошкольный факультет, где была напропалую активисткой, и дома её сразу же взяли в горком комсомола, инструктором в школьный отдел, что дало знакомым повод для бесчисленных шуток: мол, экстерном, перескочила из детсадовской категории. Лена этим шуткам смеялась больше шутивших – она была свойской и весёлой. Когда я её увидел в коридоре горкома, заскочив туда во время одной из командировок за какой-то справкой – не той, что «не был» или «не состоял», а за обзором работы горкома по определенному направлению, то остолбенел!
– Ты как тут.., – начали говорить мои губы, а мозг уже сообразил, что я обознался – конечно, это не Оля Медведева.
– Вы что-то хотели? – остановилась, не поняв моего бормотания, Лена.
– Напомнили одну знакомую…
– А может это я и есть? – лукаво посмотрела она на меня.
– Может…