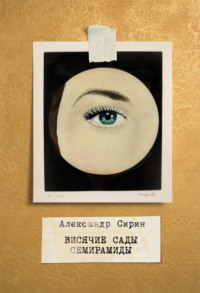Czytaj książkę: «Висячие сады Семирамиды»
Все упоминаемые в сборнике учреждения, организации, персонажи носят вымышленный характер. Любые совпадения с реальными учреждениями, организациями и фамилиями людей являются исклю-чительно случайным совпадением.
Для создания макета лицевой стороны обложки книги использована картина Рене Магритта L’Oeil vert, ou L’objet («Зеленый глаз, или Предмет»).
© Сирин А., текст, 2024
© Геликон Плюс, оформление, 2024
* * *
Предисловие
Сборник Александра Сирина «Висячие сады Семириды» включает шестнадцать произведений различных жанров, которые мы бы определили как рассказ, большой рассказ, повесть («Турандот», «Висячие сады Семириды»), а также текст большого формата, который обозначен автором как post-punk роман. Действительно ли это роман или post-punk роман, а может, повесть или большой рассказ, как однажды по отношению к одному из романов Маканина сыронизировал язвительный Виктор Топоров, судить более маститым критикам, мы же ограничимся рядом небольших суждений и замечаний, сложившихся по прочтении сборника.
Структура произведений сборника в целом архаична: так писали в шестидесятые, семидесятые, но новаторство Сирина видится в другом: через переплетение сюжетных линий рассказов и кочующих персонажей (подобный прием в своем творчестве, к слову, использовали также Уильям Фолкнер и Ингеборг Бахман), которые из одного произведения перетекают в другое (в одних произведениях они являются главными действующими лицами, в других второстепенными, а в некоторых лишь упоминаются) создается единое мозаичное полотно, а не просто набор новелл, оказавшихся по случаю под одной обложкой. Посредством этого переплетения сюжетных линий перед нами предстают представители различных социальных групп и создается панорамная картина общества.
Это мозаичное полотно взаимосвязанных литературных персонажей напоминает известный альбом группы The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Со знаменитым альбомом The Beatles у сборника Александра Сирина имеется композиционное сходство: в альбоме Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band одна музыкальная композиция перетекает в другую. Нечто подобное происходит и в сборнике Сирина: сюжеты новелл перекликаются, в них порой приводятся одни и те же истории, но переданные глазами разных рассказчиков, как в новелле Акутагавы «В чаще».
Кроме того, в post-punk романе «Осквернитель праха» присутствует сцена, в которой огромный хор, включающий российских политических деятелей и медийных персон последних трех десятилетий (в одной из сцен инсталляции в театре Боровлева), поют знаменитую песню Джона Леннона Imagine. Эта сцена с известными персонажами напоминает обложку альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, но у любителей российской рок-музыки возникнет еще одна ассоциация – ассоциация с известной песней Майка Науменко «Уездный город N». Как и в песне Науменко, на каждого персонажа этого шоу приводится личностная характеристика, запечатленная в надписи на футболке, в которой обыгрывается какая-либо известная реплика того или иного персонажа (как в случае с Пугачевой мадам Брошкина) или же дается отсылка на какое-то деяние, связанное с этим персонажем (пенсионная реформа, как в случае с А. Кудриным). Можно предполагать, что если бы не некоторые цензурные ограничения, то круг персонажей этого театрализованного шоу был бы более значительным, но что делать – всегда чем-то приходится жертвовать во имя каких-то более глобальных задач.
Отчасти с панк-культурой произведения Сирина сближает отношение к медийным фигурам массовой культуры. В театре в кругах ада мы видим культовых политиков прошлого и настоящего (английскую королевскую династию и т. д.), российских политиков двадцатого века, бизнесменов, известных российских литераторов современности и деятелей поп-культуры – Абрамовича, Улицкую, Акунина, Пугачеву, Макаревича. Не случайно самое post-punk-ское произведение сборника названо «Осквернитель праха»: здесь Сирин, подобно известной серии Эдуарда Лимонова, не пожалел ни живых, ни мертвых. Возможно, в будущем подобные концептуально цельно выстроенные литературные сборники критики будут характеризовать как post-punk направление.
С Ингеборг Бахман прозу Сирина, помимо некоторых общих особенностей художественного метода (переплетение сюжетных линий новелл посредством кочующих персонажей) сближает еще одна важная деталь: это некая мировоззренческая общность персонажей их произведений. Известный литературный критик Д. Затонский, характеризуя героев произведений Ингеборг Бахман, отмечал, что они, гонимые внутренним беспокойством, бродят по свету в смутной надежде обрести где-нибудь свой дом. И эти жильцы безликих гостиничных комнат (в рассказах Сирина – жильцы коммуналок) лихорадочной деятельностью, точно наркотиками, глушат свое одиночество, свою неприкаянность, зарабатывают деньги, приспосабливаются и пылают гневом, оставаясь пришельцами, чувствуя себя чужими1. Все они, пишет Д. Затонский, «напоминают членов некоего ордена, узнающих друг друга не по тайному знаку, а благодаря сходству мыслей, чувств, отвращений и приверженностей; они еще более чужды, чем все прочие жители Запада, этому гремящему, неоновому, рекламному бытию и оттого еще острее ощущают свою противоестественность; и они связаны пусть и невидимыми, но прочными, нерасторжимыми нитями. Это «что-то» – уклад провинции, утраченный, однако не забытый дом, ставший их «духовными» миром»2. В определенной мере это можно отнести и к героям произведений Александра Сирина.
Географические координаты населенных пунктов, в которых проживают герои произведений Сирина (за исключением двух рассказов), включают различные точки европейской части России – Петербург, Республику Коми, черноморское побережье, но сюжетная линия большинства произведений связана с городом, в отношении которого в российских СМИ в последние десятилетия употребляют термин «культурная столица». Именно сюда в поисках счастья, в стремлении к карьерному росту из далеких рабочих поселков направляются действующие лица произведений Сирина.
Жизнь в большом мегаполисе ставит перед вчерашними провинциалами нелегкие вопросы: может ли успех в достижении цели оправдывать средства, которые были употреблены для ее реализации, и можно ли достичь финансового благополучия честным трудом или, как писал один экономист, в основе любого богатства лежит преступление; совместимы ли гений и злодейство – всегда ли успешная научная карьера соотносятся с вопросами морали и этики. Каждый из героев Сирина по-своему решает эти вопросы и делает свой нелегкий выбор.
Хронологические рамки событий, описываемых в рассказах сборника, охватывают период со второй половины XIX века (первые годы после окончания Кавказской войны) и до первых двух десятилетий XXI века – от времени правления Александра II до постъельцинского времени современной России. В произведениях Сирина нашли отражение многие сложные исторические перипетии этих полутора веков истории нашей страны: Кавказская война девятнадцатого века, Октябрьский переворот и последующая за ним Гражданская война, ГУЛаг, Великая Отечественная война, хрущевская «оттепель», распад СССР, две чеченские войны и шоковая терапия реформ 1990-х годов. В произведениях Сирина очень много знаковых вещей и деталей, характеризующих ту или иную эпоху: частушки, анекдоты, эстрадные песни и переделки этих песен в городской низовой культуре. Этот фольклорный антураж дает возможность прочувствовать атмосферу посиделок советской интеллигенции в хрущевско-брежневское время – фрондёрские беседы на «скользкие» политические темы, разговоры про искусство – кино, музыку, литературу, сдобренные анекдотами на «на злобу дня» и популярными советскими песнями, переделанными на свой фрондерский лад. Все то, что по словам одного советского писателя называлось «подкусыванием советской власти под одеялом».
Сюжеты некоторых рассказов своими сюрреалистическими поворотами заставляют нас вспомнить произведения Н. В. Гоголя, еще одного писателя, чье творчество также связано с городом на Неве, – Германа Шефа3 и, конечно, Франца Кафку, в произведениях которого, по замечанию Ю. Трифонова, на первый взгляд, «все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства; того, например, что Замза превратился в насекомое». В post-punk романе «Осквернитель праха» есть также аллюзия на роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», в частности на монолог великого инквизитора, только в произведении Сирина в роли великого инквизитора выступает баптистский проповедник.
Александр Чечулин,литературный критик.
Осквернитель праха
post-punk роман
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод…
Максимилиан Волошин. «Петроград»(Из цикла «Пути России». Сергею Эфрону)
Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь?
Ф. Ницше. «Веселая наука»
«Сколько я помню, этот портрет – портрет председателя уездного реввоенсовета Левина – всегда висел в кабинете моего отца.
С этим портретом связано одно мое детское воспоминание. Как-то утром я спустился со второго этажа, из спальной комнаты, в рабочий кабинет отца. Дверь в кабинет отца была приоткрыта. Я видел спину отца. Он стоял перед портретом Левина, и тут произошло нечто такое, что весьма сильно поразило меня и что никак не связывалось со сложившимся у меня образом моего отца – аскетичного, сдержанного человека. Отец сделал шаг к портрету и вдруг неожиданно произнес: «Будь ты проклят, старик!» и плюнул на портрет. Уже позже, спустя годы, я узнал, что у Левина в большевистском подполье было прозвище «Старик». Возможно, я сделал какое-то движение и отец услышал шум у себя за спиной, а может, он сам почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, но, резко обернувшись, он сурово посмотрел на меня:
– Подойди ко мне! – сказал он.
Я подошел.
– Ты уже не мальчик, достаточно взрослый и понимаешь, что об этом никто не должен знать. Ты меня понимаешь?! – он окинул меня своим суровым взглядом.
– Понимаю, – кивнул я в ответ. Я был смущен и растерян. Открылась какая-то неведомая мне, скрытая сторона души моего отца.
Но тогда я не решился и побоялся о чем-либо расспрашивать его. Лишь спустя годы, когда я уже учился в Горном институте, в разговоре с отцом я вспомнил этот случай. Собственно, тогда я впервые услышал историю этого портрета, фамилию художника и то, как этот портрет оказался в нашем доме, у моего отца. Потом, приезжая в отпуск на родину, в разговорах с родственниками и знакомыми отца я узнал еще много разных подробностей, связанных с этим портретом и человеком, изображенным на этой картине.
Один местный художник, желая польстить Левину, который в то время возглавлял уездный реввоенсовет, решил написать его портрет. Композиция портрета в чем-то напоминала известную картину Петрова-Водкина, на которой был изображен цареубийца Ленин: Левин сидел за огромным столом, на котором была растянута карта нашей Кубанской области, сверху которой лежал циркуль. По материнской линии Левин происходил из калмыцкого рода, и на этой картине его азиатские черты были как-то отчетливо подчеркнуты, что еще более усиливало сходство картины Петрова-Водкина и портрета Левина кисти нашего местного художника. Возможно, столь резко очерчивая азиатские черты во внешности Левина, художник хотел подчеркнуть дальнюю генеалогическую связь калмыков с великими завоевателями из рода чингизидов. Подобно многим большевистским руководителям разных рангов тех времен, Левин в повседневной жизни предпочитал ходить в военном френче, но художник почему-то решил изобразить его в черкеске. Возможно, художник полагал, что черкеска придает некую мужественность портрету Левина. Но несмотря на различные художественные ухищрения, портрет председателю уездного реввоенсовета решительно не понравился. Рассказывают, что картина столь сильно возмутила нашего диктатора, что он приказал всенародно высечь нашего местного Петрова-Водкина.
На центральной площади выстроили помост и размещенном на нем нем скамейке растянули этого незадачливого портретиста. Молодцеватый парень в красной кумачовой косоворотке, в штанах из пестрядины, заправленных в до блеска начищенные хромовые сапоги, под улюлюканье собравшейся на площади толпы праздных зевак начал старательно разминать розгами спину нашего местного художника-самородка. Рассказывают, что молодцеватый парень, подгоняемый улюлюканьем и свистом толпы, так увлекся, что спина незадачливого портретиста превратилась в сплошное кровавое месиво. Толпе подобные публичные акты весьма нравились.
Вообще надо заметить, что наш уездный председатель реввоенсовета был большой специалист по части различных истязаний. Он, например, возродил древнюю казнь – усаживание на кол. Возрождены были и другие старинные методы истязаний: отсекание конечностей, вырывание ноздрей, а кроме того закоренелым преступникам, подобно тому как коннозаводчики отмечали владельческим тавром своих лошадей, фигурными штемпелями с длинными иглами, по которым ударяли киянкой, наносили слова, указывающее на род преступной деятельности или же только аббревиатуры юридических терминов правонарушений. В рану, образовавшуюся на теле от длинных игл штемпеля, затем втирали черную тушь и в результате на теле человека, уличенного в совершении того или иного преступления, появлялась татуировка, указывающая на вид правонарушения. Мелким карманникам и прочим, совершившим гражданские правонарушения, на лопатке или предплечье ставили татуировку в виде отметок: вор, хулиган и так далее. К наиболее тяжким видам преступлений относилась контрреволюционная деятельность: таким осужденным на лбу ставили клеймо из трех букв КРД.
Ходили слухи, что в тюремных изоляторах существовала еще одна форма казни, когда преступника помещали в емкость с цементным раствором или же просто заживо замуровывали в стену.
Карманников, уличных хулиганов и прочих мелких правонарушителей, не замешанных в контрреволюционной деятельности и попавшихся первый раз, подвергали публичной порке, иногда розгами, а тех, кто уже неоднократно был уличен в подобном противоправном проступке, наказывали нагайкой и ставили клейма.
Народ любил эти публичные казни и многое готов был простить нашему сумасбродному правителю. Для жителей нашего провинциального города эти публичные казни стали тем же, чем для жителей крупных губернских центров являются театры. Конечно, как и в любом приличном уездном городишке, у нас в те самые, заклейменные большевиками царские времена существовал театр, однако он и в лучшие годы не собирал более нескольких десятков энтузиастов. А с приходом большевиков театр и вовсе прекратил свое существование. Местная театральная труппа разбежалась, а здание театра передали большевистскому литературному обществу «Красный молот», где с утра до глубокой ночи доморощенные поэты из далеких станиц читали свои революционные вирши. Но народные массы в большинстве своем оставались безучастными к бодрым революционным рифмам большевистских сказителей. Красочные афиши, развешанные по городу, привлекали не более двух десятков любителей большевистских агиток, как будто над зданием театра висело какое-то проклятие. Иное дело казни: народ валил на них целыми толпами, шли семьями, с малыми детьми, как на какое-то народное гулянье. Специально для оповещения горожан наш председатель реввоенсовета выделил автомобиль, на котором ездил глашатай, через громкоговоритель оповещавший граждан о грядущем событии. Кроме того, по городу накануне этих публичных форм наказания вывешивались яркие плакаты, на которых крупными буквами была написана фамилия осужденного и указывалось какой вид наказания будет применен в отношении того или иного преступника. Если мелких правонарушителей подвергали публичной порке, то наказанием для арестантов, осужденных за контрреволюционную деятельность, была смерть. При этом рядовых контрреволюционеров предпочитали умерщвлять через повешение, в то время как руководителей контрреволюционного подполья или тех, кого к таковым относили, предавали изощренным методам казни: четвертовали или же усаживали на кол. Правда, все эти изощренные методы казней Левин предпочитал проводить не на центральной городской площади, а в окрестных станицах. Рассказывали, что в одном из боев большевики взяли в плен около трех десятков белогвардейцев и все они были посажены на кол на главной станичной площади. Правда, позднее, когда большевики упрочили свою власть и на далеких окраинах, изуверские казни были прекращены и методы физических расправ над преступниками были приведены в соответствие с директивными нормами советских судебных органов. Тем не менее ходили упорные слухи, что в тюремных изоляторах для своих близких соратников наш уездный председатель реввоенсовета продолжал практиковать эти средневековые формы изощренных истязаний.
А что касается той самой злополучной картины нашего местного Петрова-Водкина, то ее судьба оказалась не столь печальной, как судьба ее автора. Поначалу, как мне рассказывал отец, наш диктатор хотел картину уничтожить, но потом передумал – как-никак на картине был изображен его лик – и подарил ее моему отцу.
Мой отец был одним из немногих, кто знал нашего будущего диктатора в те времена, когда тот, будучи еще мальчиком, вместе со своей семьей переехал в наш город.
Его прадед был из мелкопоместных дворян – имел небольшое поместье в Курской губернии. Однако вскоре после известного манифеста царя Александра Второго об освобождении крестьян семья Левина, не сумев приспособиться к новым условиям, разорилась. Так что отец Левина ничего, кроме дворянского титула, не унаследовал от своего прародителя. Правда, он не особенно горевал от потери поместья в Курской губернии – при дележе имущества с его многочисленными родственниками ему едва ли досталось бы приличное состояние. Он к тому времени работал инспектором в землеустроительной комиссии и был женат на дочери зажиточного калмыка, так что жил вполне благополучно.
Семья моего отца, в отличие от Левиных, ни дворянского титула, ни имения не имела. Мои предки относились к мещанскому сословию. Правда, один из наших родственников, двоюродный брат моего деда, Рукавишников, кстати говоря, дальний родственник петербургских купцов Рукавишниковых, сумел выбиться в купеческое сословие – из мещан был переведен в купцы третьей гильдии. Но мой дед, как и все наши далекие пращуры Сирины, не имел каких-либо задатков для занятий торговлей, поэтому вынужден был искать какое-то иное предназначение в гражданской жизни. Он сумел закончить медицинский факультет Киевского университета и работал врачом. И вот в качестве врача он и оказался на черноморском побережье. Это было в ту пору, когда только-только закончилась война с горцами.
На месте нашего города в то время были селение шапсугов и небольшой укрепленный форт русской армии, строительство которого было начато сразу после окончания войны с горцами. Позднее форт Веньяминовка, названный так в честь русского офицера, руководившего строительством укреплений, был преобразован в станицу Веньяминовскую, которая в начале двадцатого века получила статус уездного города. Но все это было позже, а в те времена это было одним из мест, откуда происходило переселение черкесов в Турцию.
Огромные толпы черкесов, узнав, что русский царь собирается переселить их с предгорья на равнины, устремились на берег, к форту Веньяминовка, в поисках рыболовецких баркасов, чтобы переправиться к своим единоверцам в Турцию. По всему побережью были раскиданы шалаши и палатки черкесов, ожидавших лодок и баркасов с турецкой стороны.
Мой дед в качестве врача осматривал эти временные лагеря переселенцев, а также покинутые аулы, чтобы исключить какие-либо инфекционные эпидемии. Я помню, он рассказывал, как приехал в одно такое покинутое черкесское селение. Аул был пуст, с петель сорваны двери, вокруг домов были разбросаны сломанные ставни, битая глиняная посуда горцев. Стоявшая в середине аула мечеть была захламлена, во дворе мечети лежали разбитые дощечки-шамаиль с выписками из Корана. По огромному аулу слонялись толпы расквартированных солдат. Дымились костры, солдаты готовили пищу. Вокруг костров лежала разломанная мебель горцев. Еще недавно здесь кипела жизнь, раздавались шум и визг детворы, крики петухов, блеяние стад овец. Все смолкло. Везде царили разруха и запустение.
А три дня спустя дед поехал на побережье с полковым лекарем. На берегу под ветхими навесами сидели черкесы, ждали, когда какой-нибудь баркас заберет их. Чуть поодаль возле костров сидели солдаты – сторожили, чтобы черкесы не вернулись обратно в горы. Дымились костры, готовилась еда, черкесы – мужчины, женщины, дети с унылыми, отрешенными лицами – сидели и смотрели в синеву моря, где белели паруса рыбацких баркасов. Веселье покинуло их, даже дети с изможденными лицами слились со своими пожилыми родственниками.
Начальствовал над воинской командой молоденький офицер-армянин по фамилии Лорис-Меликов, родственник начальника Дагестанской области Левана Меликова.
Под одним из навесов сидел пожилой седой горец. Он раскачивался, как маятник, и что-то бормотал себе под нос.
– Что он бормочет, молится? – спросил офицер своего толмача.
– Нет, проклинает русского царя. Приказать ему, чтобы он замолчал? – спросил толмач.
– Пусть бормочет свои проклятия. Никому нет дела до слов этого дикаря, пусть бормочет, – ответил офицер.
Тем временем небо затянуло черными тучами, стал накрапывать дождь, который вскоре превратился в ливень. Несколько уже отчаливших рыбацких шхун вновь пристали к берегу.
Офицер подошел к лодкам:
– Почему вернулись?
– Гроза, – ответил один из рыбаков, – на море большие волны, буря. Опасно!
– Отправляйтесь назад! Вам уже все оплачено. Мне приказано в течение двух недель очистить берег.
Рыбаки какое-то время пререкались, а потом под непрерывным ливнем баркасы вновь отчалили от берега.
Спустя десять дней мой дед проходил по этому участку берега, где еще недавно стояли навесы горцев, и увидел на берегу прибитые волной трупы: чьи-то баркасы перевернулись в море, не дойдя до желанного турецкого берега. Ходили слухи, что турецкие перевозчики выбрасывают в море переселенцев.
А через две недели после всех этих событий мой дед оказался в Кбаадэ, где великий князь Михаил Николаевич принимал парад русских войск по случаю окончания Кавказской войны. После парада присутствующих пригласили на торжественный ужин. Деда усадили за стол с каким-то полковым священником и двумя молодыми офицерами. Священник был пьян и раз за разом обращался к сидящим с ним за одним столом офицерам, призывая сказать тост за православную церковь.
– Господа, только не забывайте церковь! В этой победе немалую роль сыграли молитвы нашей матушки-церкви, – лепетал пьяный батюшка, обращаясь к офицерам, – приглашаю всех на молебен по случаю годовщины победы…
А перед глазами моего деда стояли навесы беженцев-черкесов, трупы выброшенных морем на берег горцев… С того времени, как мне говорил дед, он перестал ходить в церковь. Он стал христианином без церкви…
С тем молодым офицером-армянином судьба вновь свела моего деда через пятьдесят лет, в Новороссийске, во время Гражданской войны. Здесь, в Новороссийске, мой дед оказался вместе с отступающими частями белой армии. Здесь же был мой отец, который, как и дед, был медиком. Только в отличие от деда он заканчивал медицинский факультет не в Киеве, а в Москве. В девятнадцатом году он был мобилизован в белую армию и прошел с ней путь от Ростова до Воронежа, а потом вместе с отступающими частями дошел до Екатеринодара, где в одном из полевых госпиталей встретил своего отца, моего деда. И они уже вместе проделали путь до Новороссийска. Уже спустя годы отец рассказал мне про весь ужас отступления добровольческой армии Деникина до Новороссийска: вся дорога была запружена отступающими частями и беженцами. Ходили разные слухи про злодеяния, которые вытворяют большевики в захваченных ими городах и селах, поговаривали, что следом за кавалерией Буденного идут латышские стрелки, которые устраивают массовую резню членам семей участников белого движения, насилуют женщин. И вот, спасаясь от надвигающейся катастрофы, простые обыватели, оставив дома и имущество, захватив с собой лишь необходимые вещи, устремились к морю в надежде, что союзники вывезут их в Турцию или в Крым, где, по слухам, генералу Слащеву удалось на Перекопе остановить красных. В непролазной грязи медленно продвигалась многокилометровая вереница телег и повозок. Стоял нескончаемый гул из разнообразных криков, плача, артиллерийской канонады, которая была слышна от быстро приближающегося фронта. Все было против этих несчастных людей, застрявших в непролазной грязи; сама природа тоже, кажется, за что-то осерчала на них, и с неба, как при потопе во дни Ноя, нескончаемым потоком лился дождь с мокрым снегом. С большим трудом моим деду и отцу удалось найти пристанище в Новороссийске, снять комнату у одного из местных жителей.
Они прожили там около недели, пытаясь пристроиться на какой-нибудь транспорт, но все безрезультатно – толпы людей с остервенением штурмовали корабли, пытаясь протиснуться внутрь транспортов.
В городе царила паника. В отдалении слышалась артиллерийская канонада – корабли английской эскадры обстреливали окрестные горы, где, по слухам, уже находились красные. В порту слышались взрывы. Говорили, что это взрывают боеприпасы, чтобы они не достались красным. Черные клубы дыма поднимались над заливом – в порту жгли цистерны с нефтью. Ходили разные слухи: одни утверждали, что красные уже вышли к станции Гайдук, другие говорили, что шотландские стрелки, которые помогали добровольческой армии оборонять город, отбросили красных.
И вот в один из этих смутных дней во двор дома, в котором размещались мой отец с дедом, зашел молодой поручик добровольческой армии. С ним были высокая, статная, красивая молодая женщина и пожилая супружеская чета – пожилой армянин, одетый в черкеску, и пожилая женщина в черном пальто, укутанная сверху шалью. Офицер обратился к хозяину дома, чтобы тот нашел для них место для ночлега на несколько дней. Хозяин дома поначалу отказывался разместить их, затем, вняв просьбам и угрозам молодого поручика, все-таки согласился. Поскольку свободных мест в доме не было, то пришлось моему отцу с дедом потесниться: в комнате, где они жили, сделали временную перегородку, по одну сторону которой разместились вновь прибывшие постояльцы, по другую – отец с дедом. Офицер все время пропадал в порту, пытаясь найти транспорт, а его родители и жена оставались в доме.
Отец рассказывал, что старый армянин днем сидел на кухне, монотонно раскачивался корпусом и бессмысленно повторял одну и ту же фразу:
– За что?! За что Бог наказал нас?
Раз за разом он повторял эту фразу.
С самого начала встречи с семьей пожилого армянина как вспоминал мой дед, его не покидало чувство, что когда-то он уже встречался с главой этого семейства, но вспомнить, где и при каких обстоятельствах они встречались, он не мог. В конце концов, за плечами деда была длинная жизнь, в которой было много разных встреч и расставаний, и удержать все эти события в голове уже немолодому человеку было не просто. И вот однажды, когда старик армянин все так же сидел на кухне и что-то бессвязно бормотал про себя, в голове у деда как будто что-то щелкнуло: как сквозь затянутое тучами небо выглядывает солнце, перед глазами деда всплыла картина далекого шестьдесят шестого года – в этом бормотавшем бессмысленные фразы старике мой дед узнал того молодого офицера, который занимался депортацией черкесов.
Дед обратился к нему:
– Вы, наверное, меня не помните? Пятьдесят лет назад вы здесь, на побережье, занимались депортацией черкесов. Я тогда был прикомандирован сюда в качестве врача. Помните?
Нет, покачал головой старый армянин, он не мог вспомнить моего деда. Тогда мой дед стал вспоминать разные события того далекого шестьдесят шестого года – вечер в доме генерал-губернатора, рыболовецкие баркасы, которые перевозили черкесов в Турцию, и тут из закоулков памяти этого пожилого армянина вспыли картины событий тех далеких лет: он вспомнил побережье возле форта Веньяминова, сидящих под навесами черкесов, ожидающих рыбацкие баркасы, которые бы переправили их в Турцию.
– А помните старика-черкеса, который одинокий, покинутый всеми сидел под одним из навесов и, так же как вы сейчас, что-то бормотал про себя? Старый черкес в черной грязной бурке, в черной папахе. Помните?
– Да-да, что-то смутное вспоминается. А что говорил этот старый черкес?
– Он проклинал русского царя, – ответил мой дед.
– Проклинал царя, – вслед за дедом задумчиво повторил старый армянин. – Наверное, он имел на это право. Да, имел право.
Помолчав, он вопросительно посмотрел на моего деда и спросил:
– И что же, вы сейчас действительно думаете, что нас постигло проклятие этого старого черкеса?
– Скорее, нас постигло собственное проклятие. Каждая империя несет в самой себе проклятие. Рано или поздно каждой империи, выстроенной на крови и насилии, приходит конец.
Молодой поручик оказался более удачливым, чем мои отец с дедом: через три дня он со своими престарелыми родителями и женой уплыл на английском транспорте в Константинополь. Корабли уплывали по тому же самому маршруту, что и пятьдесят лет назад рыболовные шхуны, перевозившие согнанных со своих земель черкесов…
Огромная толпа народа – несколько сотен, а может, и больше тысячи человек – осталась стоять на пирсе. Они с глубокой тоской и печалью смотрели вслед уходящим кораблям, которые увозили счастливцев от этого страшного берега, где вскоре должны были разыграться кровавые сцены братоубийственной войны. Им оставалось только ждать и надеяться, что судьба в этот раз к ним будет более милостива, что все эти рассказы про зверства красноармейцев и латышских стрелков – всего лишь досужие вымыслы. Но многие предпочитали смерть этой туманной неопределенности своего будущего. Прямо здесь, на пирсе, разворачивались кровавые драмы страшной братоубийственной войны. Несколько раненых офицеров, не сумевшие попасть ни на один транспорт, предпочли прямо здесь, на пирсе, добровольно свести счеты с жизнью, нежели попасть в руки красных. Очевидцы всех событий рассказывали жуткую историю про капитана Дроздовского полка, который пытался пробиться на один из последних транспортов с женой и двумя малолетними детьми – девочками трех и пяти лет. Видя, что нет возможности попасть на транспорт, и слыша приближающуюся к пристани стрельбу, офицер, перекрестившись, поцеловал своих дочек, а затем каждой из них выстрелил в ухо, затем перекрестил жену, поцеловал ее на прощание и так же в ухо выстрелил ей, а последнюю пулю пустил себе в лоб.