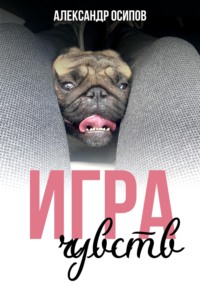Czytaj książkę: «Игра чувств»
Любимой женщине Татьяне посвящается
Ириске я неожиданно для самого себя позвонил через четыре года после университета. Позвонил в пятницу. По пятницам я тогда обычно делал глупости…
Все рабочие дела пятницы, которые можно отложить на понедельник, я откладывал на понедельник. Всю энергию, которую можно было бы потратить на решение проблем, я тратил на то, чтобы отложить эти решения на пару дней.
Почему-то именно по пятницам я тогда звонил не тем женщинам. Я звонил женщинам из прошлого… Милым, приятным, даже желанным, даже когда-то любимым женщинам. Но из прошлого… Если им было нечем заняться, мы встречались. Я точно знал, что мы встречаемся не потому, что мы оба этого хотим. Просто сегодня у нас свободного времени больше, чем нужно, чтобы не сходить тихонько с ума в одиночестве.
По пятницам я тогда не звонил женщинам из будущего. Не звонил тем, с кем хотел бы поехать по городам и странам, тем, с кем я хотел бы родить мальчика или девочку, тем, с кем хотел бы состариться… Конечно же, они обо всем этом не знают, держат дистанцию, наверное, просто всего этого не хотят. Или хотят, но не со мной. Я не звонил им, потому что именно в пятницу я меньше всего хотел услышать короткие гудки в телефоне или дежурное «прости, сегодня не могу». В другой день я это пережил бы. Но в пятницу… В пятницу я жду звонка от них. Но они об этом, наверное, не знают. И не звонят. А я жду и жду. Когда чего очень сильно ждешь, то значит в твоей жизни что-то очень не в порядке.
Иногда по пятницам я шел в рестораны с женщинами, которых мне не хотелось, или пил пиво с мужиками, с которыми мне не о чем разговаривать. Но они об этом не догадывались, потому что я дежурно флиртовал с женщинами и артистично рассказывал пошлые анекдоты мужикам. Только по пятницам я почему-то напивался так, что на следующий день болела голова.
Еще по пятницам я от нечего делать ходил в казино и отчаянно проигрывал. Это значит, что проигрывал все, что было в кошельке. Потом я научился не брать с собой банковскую карточку и проигрывал вполне некатастрофичные суммы. В другие дня в казино я обычно выигрывал, но не по пятницам.
Только по пятницам я смотрел по телевизору фильмы, которые уже много раз видел или которые никогда бы не стал смотреть в любой другой день. Однажды я даже полчаса смотрел какой-то сериал, в котором кто-то постоянно смеялся за кадром. В другие дни меня этот смех безумно раздражает, но не по пятницам.
По пятницам я не мог читать.
По пятницам я не мог писать.
По пятницам я терял себя.
В такую пятницу я вдруг позвонил Ириске, и она сказала приветливо и коротко:
– Прилетай!
Через четыре часа я был уже в Москве.
– Ты знаешь, что на всей планете только ты называешь меня Ириской?
– Да?.. А как тебя зовут на самом деле?
– Все больше людей называют меня Ириной Владимировной.
С Ириской мы когда-то учились на одном курсе. За первые три года учебы мы сказали друг другу не больше двух десятков слов, если «привет» и «пока» не считать словами, что, скорее всего, вполне справедливо.
…Это случилось в стройотряде. В тот последний перед отъездом вечер все словно наверстывали что-то почти упущенное, но получалось только напиться до умопомрачения или заняться сексом. Напиваться ни мне, ни Ириске не хотелось.
Я подошел к Ириске и даже сумел поднять глаза и смотрел ей куда-то в переносицу:
– Именно сейчас и именно тебе я хочу рассказать анекдот про поручика Ржевского.
Я дал себе и Ириске сразу два шанса завязать разговор: если ей не интересен анекдот, то у меня еще оставалась надежда, что ее заинтересует, почему именно ей я хочу его рассказать.
– Этот анекдот пошлый или смешной?
– Он актуальный…
Ириска уже все понимала и потому колебалась. В те времена я уже знал, что, если женщина колеблется, значит, она уже согласилась.
– У поручика Ржевского как-то спросили, как ему удается пользоваться таким большим успехом у женщин. «Очень просто, – ответил Ржевский, – я подхожу к понравившейся мне женщине и говорю: «Имею честь предложить вам впендюрить». «Но позвольте, поручик, за такие слова можно и по морде получить». «Можно и по морде. Но чаще впендюрить!»
Мы занимались сексом в какой-то подсобке недолго и неромантично, даже не снимая трусы. Потом вместе пошли в столовку и все-таки напились.
На следующий день мы ни разу не встретились взглядами, улетели в Питер, разъехались по домам. Мы увиделись лишь через месяц. Я захотел смутиться ее взгляда, но у меня не получилось:
– Спасибо, что не упрекаешь меня за тот детский угловатый секс.
– У тебя еще будет шанс исправиться.
Следующую ночь мы провели вместе через два года, после выпускного вечера. Утром меня разбудила ее суета:
– Ты куда?
– Я замуж ненадолго. Ты дождешься?
Ириска никогда не ждала немедленных ответов на свои вопросы, и, возможно, именно это мне нравилось тогда в ней больше всего.
Через час она улетела в Москву.
– Я знала, что однажды ты мне позвонишь.
– Почему же ты ждала все эти годы и не позвонила сама?
– Если бы я позвонила сама, ты ответил бы мне неправильно.
Когда мы суетливо прощались в прихожей, Ириска сунула мне в карман ключ от квартиры:
– Просто, чтобы я могла быть непунктуальной и не страдать по этому поводу. Я буду знать, что ты ждешь меня дома, в тепле, и стану торопиться медленно, чтобы приехать как можно быстрее…
В этих простых словах я услышал вопрос только через несколько лет. Оказывается, часто вопросы произносятся совсем без вопросительной интонации. Ириска приезжала ко мне довольно часто, и во мне всегда хватало желания и возможности быть рядом с ней почти все время ее пребывания в Питере. Но однажды у меня была запарка на работе, и она прождала на вокзале больше часа.
– Здесь нет тепла, – сказала Ириска без упрека.
Только после этого, будто опомнившись, я отдал Ириске дубликаты ключей от своей квартиры.
– Я была готова ждать эти ключи еще год или два… Но не больше!
– И что было бы потом?
– А потом просто сама взяла бы твои ключи, – улыбнулась Ириска.
В Москву по делам я летал часто, почти каждую неделю. Еще пару раз в месяц я должен был наведываться в какой-нибудь из городов-миллионников. Раз в полгода бывал на Дальнем Востоке. Я всегда любил летать, и даже бизнес-класс на «Боинге» считал полетом. Детское пренебрежение к большим самолетам во мне бродило в начале моего увлечения легкой авиацией. Тогда только пилотирование на старенькой «Сесне» над дачными поселками я считал настоящим полетом. В «Боинге», конечно, такую близость неба не почувствуешь. В «Боинге» я не летел, а зависал. Ровный гул моторов, остановившиеся облака, земля под тобой словно детальная прорисованная карта, физическое ощущение смены часовых поясов… После пары глотков коньяка я не думал, не спал, не чувствовал, не мечтал… Я зависал!
Улетать из Питера я любил, потому что почти всегда улетал из промозглой полумглы к солнцу. Самолет прорывался сквозь перину облаков, укутывающую весь город и его окрестности, и солнце всегда радостно приветствовало, как казалось, именно меня. Это было разновидностью свидания. На это самолетное свидание солнце всегда приходило по-разному: то солнечным зайчиком, то дивным отблеском, то всей полнотой своего диска, требуя смиренно склонить голову и прикрыть глаза перед своей ослепительной красотой.
После философского факультета я много лет с удовольствием продавал крымские вина, занимал хорошо оплачиваемую должность в крупной компании, но, видимо, образование было настолько хорошим, что я постоянно задавал почти посторонним людям философские вопросы:
– Сколько человек ты превратил в алкоголиков за сегодняшний день?
Сеня, директор нашего московского филиала, даже не пытался задуматься. Я к этому не приноравливался – я провоцировал:
– Чем ты отличаешься от старика из деревне Убожье, которого вчера осудили на год условно за продажу самогонки?
Сеня скривил рожу, и я понял, что ответов не дождусь.
– Ты отличаешься только тем, что немного поделился с государством прибылью от спаивания народа, – ответил я за него.
Сегодня Сеня со мной не спорил. Спорить ему было тупо лень.
Наш московский филиал томился от безделья и своего смешного статуса филиала. Здесь работало раз в пять больше людей, чем в головном офисе в Петербурге, здесь был главный оптовый склад и восемьдесят процентов клиентов, были заметно выше зарплаты и дороже машины сотрудников. Томление это было ленивым и незлобным. Над вывеской со словом «филиал» посмеивались, пахать в полях по регионам не ездили, потому что на развитие москвичи милостиво не претендовали. Но зато охотно и хлебосольно принимали клиентов в Москве, и порой мне казалось, что и нас, сотрудников головного офиса, они считали лишь разновидностью клиентов.
– У вас договоры почти со всеми крупными магазинами Москвы. Но только в половину из них вы поставляете крымские вина, – я попытался заставить Сеню работать.
– Не доставай меня. Ко мне чуть ли не каждый день приезжают такие же наглые продакт-менеджеры с одним и тем же идиотским вопросом – почему их вина только в половине магазинов? Понятия не имею. И знать не хочу. Мы план выполняем. Мы каждый год даем рост. И меня больше ничего не парит.
– У тебя растет мелкий опт. Это значит, что мелкие оптовики тянут этот товар от тебя в регионы и там конкурируют с нашими официальными дилерами, портят им весь бизнес. А розницей в Москве ты не занимаешься.
– Уволь меня! Не можешь? Тогда не доставай меня. А то вдруг неожиданно сам захочешь уволиться.
Я посмотрел на него строго, но без злобы:
– Поехали в какой-нибудь ресторанчик: накорми меня вкусно за корпоративный счет.
В ресторане на десерт я заказал ветку винограда:
– Посмотри на этот ящичек вина. Каждая виноградина – это очень маленькая бутылочка. Нет, точнее ее можно назвать капсулой. А внутри каждой такой капсулы вино, от которого человек с воображением может даже захмелеть. Виноград – это вино в капсулах!
– Почему ты возишься со мной? – Сене казалось, что я развлекаю его. – Мы же почти враги…
– Только враги говорят правду. Любимые и друзья всегда в плену придуманных ими обязательств, и потому бесконечно лгут. Им кажется, что ложь дает какую-то отсрочку, и появляется время все изменить и поправить. Но врать так просто, а менять так сложно, что потом ничего не меняется и на место одной лжи просто приходит другая, еще более нелепая.
– Так могут говорить только люди, у которых нет друзей и любимых.
Сеня допил коньяк, сел за руль своего «Лексуса» и поехал обратно в офис, как обычно оставив меня свободным посреди бесконечно спешащей Москвы. Когда я смотрю в этом городе из окна автомобиля на проносящиеся мимо дома, мне постоянно кажется, что даже многоэтажки здесь куда-то суетливо торопятся.
После встречи с Ириской я не стал приезжать в Москву чаще. И даже дольше бывать не стал, потому что и раньше постоянно оставался там на выходные дни. Просто перестал заказывать гостиницу и проматывать деньги в казино.
С Ириской мы всегда удачно ходили по театрам, в кино, за покупками, по ресторанчикам… Но приятнее всего с Ириской было скучать. Валяться в кровати половину выходного дня, есть в постели, читать в постели, смотреть телевизор в постели… Иногда для разнообразия заниматься сексом, чтобы заполнить паузу в перерыве футбольного матча. Часто мы просто слушали музыку в неторопливом молчании.
Я прилетал к ней всегда, когда мне хотелось побыть одному, но не в одиночестве.
Ириска очень быстро поняла, как радовать меня и, что еще важнее, не раздражать. Я сам удивился тому, как это, оказывается, на самом деле просто. Настаивала на чем-то Ириска очень редко и делала это бережно, будто протирала антикварное стекло: чуть надавит, отступит, посмотрит на свет не повредила ли что-нибудь, снова плавно проведет шелковой тряпочкой по тому же месте, и будет довольна любым результатом.
Готовила Ириска редко, но только мои самые любимые блюда – жареную картошку и блинчики. Я всегда радостно удивлялся тому, что к моменту моего отъезда почти вся моя одежда была выстирана и выглажена.
Она очень быстро поняла, как меня поцеловать, как приласкать, как прикоснуться, и, нащупав эти кнопки на моем теле, нажимала на них нежно, не требуя взамен ответной щедрости, если я не был к этому готов. Заводилась она быстро, иногда всего лишь от прикосновения к груди, и также быстро выключалась, когда казалось, что кончились силы, засыпала, по-детски посапывая.
Мы несколько раз ездили на курорты в Грецию и Турцию, но быстро поняли, что валяться в кровати можно и у себя дома, и не надо для этого тратить силы и деньги. Когда вдруг я не мог вырваться в Москву, Ириска сама приезжала на поезде в Питер, я встречал ее рано утром на вокзале, мы медленно ехали по притихшему еще не проснувшемуся городу, и это было особенные дни – очень длинные, насыщенные моим вниманием к дорогой гостье, ее хлопотами, чтобы привести мое холостяцкое жилище в относительно уютное состояние, чтобы насытиться друг другом за пропущенные недели в прошлом и на возможную разлуку в будущем…
Ириска невымученно находила в себе интерес к моим незамысловатым способам занять себя. Она ложилась ко мне под бок, когда я смотрел футбол, и в сотый раз с неподдельным недоумением расспрашивала что же все-таки такое «вне игры» и почему нельзя отказаться от этого дурацкого, потому что ей непонятного, правила. Потом она со вниманием выслушивала мои воспоминания о самых ярких футбольных матчах, и, даже если я повторялся и ловил себя на этом, успокаивала:
– Ты говори-говори, мне интересно…
Так люди в длинной толстой очереди окликают друг друга, чтобы не потеряться.
Мы почти не говорили друг с другом о работе, о знакомых, которые не были нашими общими знакомыми, о ценах и деньгах… Иногда мне кажется, что деньги – это еще более деликатная тема, чем секс. Быт постоянно стремился залезть в наше общение, но у него это никогда не получалось, и потому я считал Ириску лучшей собеседницей даже тогда, когда она молчала. Наша жизнь в часто неубранной квартире все равно напоминала вечеринку с музыкой, вином, беседой, в которой постоянно возникало ненавязчивое желание понравиться друг другу. Желание непонятное, потому что мы и так знали, что нас ждет постель, но от этого желание не переставало быть настолько милым, что мы постоянно забывали, во сколько нам вставать на следующий день.
Мы много пили разные вина. Иногда по две, а то и по три бутылки в день. Конечно, перепробовали все крымские вина, которые я продавал или думал о том, стоит ли браться за их продажу. А потом еще десятки других вин со всего мира, чтобы сравнить их с крымскими.
– Бокал настоящего вина всегда поднимает настроение. Я продаю не жидкости в бутылках, а одну из самых ценных эмоций – радость. У людей всегда будет хорошее настроение, если они будут пить только качественные вина и будут знать об этом.
Ириска подтрунивала надо мной:
– Разве ты не понял еще, что количество проданного товара почти никогда не зависит от его качества?
Про вина я мог говорить часами. Я давно понял, что чем больше знаешь о вине, тем оно вкуснее, и потому рассказывал о вине, словно добавлял в хорошее блюдо изысканные пряности.
– Смаковать хорошее вино – это все равно, что вслушиваться в музыку в профессиональном исполнении. Начинаешь слышать каждый инструмент и акцент, а потом то, как инструмент ведет свою мелодию или просто помогает другому инструменты делать это, – я крутанул вино, и оно заплакало длинными густыми слезами по стенкам бокала. – Это вино настолько густое, что кажется только таким головокружительным движением я не позволяю ему превратиться в желе. Эти движения будят запах вина. Теперь ты можешь вдохнуть его. Редкие духи имеют такой изысканный аромат!
Ириска старательно морщила опущенный в бокал нос.
– И только теперь можно сделать первый глоток. Но только осторожнее, чем первый поцелуй, чтобы не распугать вкус…
– Глаза закрывать? Когда я в первый раз целуюсь с мужчиной, я всегда закрываю глаза.
– Закрывай…
– Мой первый поцелуй всегда в засос.
Я никогда не слышал как Ириска смеялась, но поводы для улыбок она придумывала постоянно. С ней всегда было не то чтобы очень весело, словно ты внутри юмористического концерта, а ненавязчиво развлекательно.
– В засос будешь пить пиво, а первый глоток вина должен быть небольшой, будто ты на секунду стала птичкой.
– Кем стала?
– Птичкой…
Мне уже самому было смешно от дурацкого сравнения.
– Вороной или сорокой?
– Лучше калибри: они молчат, когда опыляют цветки. Вылей первый глоток себе на язык… Пусть вино покатается по языку… На самом кончике языка ты почувствуешь сладкие нотки, на боковых стенках – кислые, ближе к центру – соленые, а дальше – горькие… Почувствуй вкусы и его нюансы по отдельности, а потом перемешай их на языке. «Пожуй» вино, чтобы лучше его посмаковать… Сейчас вино во рту чуть нагревается, и отдает все новые ароматы. Попытайся вдохнуть ртом воздух и как бы продуть его через вино. А теперь попробуй запомнить вкус, и тогда в твоем сознании ароматы сложатся в единую гамму…
– А когда глотать? А то мне кажется, что я уже высосала из этого глотка весь вкус и во рту осталось только какая-то невзрачная водоподобная жидкость… Может, ее просто выплюнуть? Может, именно так, – выплевывая, – и надо пить вино? Я случайно не сделала открытие в дегустации вин?
– Если будешь издеваться, то я в вино подсыплю тебе яда!
– Лучше убивай меня долго, каждой каплей вина…
– Тогда можешь глотать. И не спеши тащить в рот всякую гадость, даже если это деликатесы. Почувствуй послевкусие…
– Я давно все проглотила – как иначе я могла бы с тобой разговаривать?! У меня уже через пару секунд во рту слюны было больше, чем вина, и, если бы я его не проглотила, то считала бы, что вино надо обязательно разбавлять слюной или даже желудочным соком.
Хотя более неблагодарного дегустатора было сложно себе представить, однажды я все-таки подарил Ириске бокалы для разных видов вина.
– Конструкторы бокалов рассчитали их форму таким образом, чтобы направить поток вина на правильные "вкусовые зоны". Вот эти широкие открытые бокалы для красного бургундского и розового вин заставляют наклонить голову, а бокалы с узким горлом для рислинга, шампанского, хереса, наоборот, вынуждают голову запрокидывать и вливать вино. Здесь спроектирована точка первого контакта вина с языком, что гарантирует наиболее полное и точное представление о вкусе.
– А при проектировании учитывалась длина моего языка? Мне вот это вино упорно не нравится. Может, оно не в ту точку языка попадает? Может, чтобы это вино мне понравилось, мне надо язык чуть подрезать?
– Думаю, язык тебе точно надо подрезать, но по другой причине…
Ириска улыбалась во всю ширину открытого бокала.
– В аромате вина важно почувствовать две линии: плодовую, идущую от виноградной ягоды, и танинную, пряную, которая происходит от кожицы винограда и дубовой бочки, – учил я ее жить.
– Я чувствую еще третью линию – привкус средства для мытья посуды! Кому-то кажется, что чем больше он бабахнет этого средства в бокал, тем чище он станет!
Я поперхнулся следующим глотком и отправился перемывать бокалы.
– Запомни, что сложные вина нужно оттенять простой едой, – с Ириской меня часто посещал менторский тон, но я даже не думал его избегать, подбрасывая Ириске очередной повод для ее незлобливой иронии и самоиронии.
Ириска согласна кивнула, сделала пару глотков массандровского муската и зачерпнула большой ложкой горку обожаемого ею салата с креветками. Я недовольно покачал головой:
– Сейчас лучше просто съесть кусочек сыра.
– Мускат – это сложное вино или салат с креветками – это сложная закуска?
– Пойми, чтобы насладиться именно вкусом вина, то в принципе не надо налегать на еду. А если хочешь есть, то легкое столовое вино должно стать только фоном.
– С тобой я непременно стану толстой алкоголичкой!
Однажды она задумчиво спросила:
– Чем больше знаешь про вино – тем оно вкуснее: это я уже поняла. С человеком также?
– С хорошим человеком – так же…
Хотя Ириска внимательно слушала мои нотации о том, как лучше пить вина, и была на самом деле не прочь погурманствовать, она регулярно забывала переливать заблаговременно вино в графин, покупать нужные сорта сыра, а иногда даже не охлаждала заранее белое вино до нужной температуры, что ставило под реальную угрозу кулинарную ценность предстоящего ужина. Но у нее всегда находилась для меня улыбка в ответ на любые звуки моего ворчания, и эта улыбка действовала как хорошее чистящее средство на запекшуюся грязь. Ее неприхотливое невнимание почему-то никогда не воспринималось мною как личное оскорбление. Как-то я купил соковыжималку, чтобы каждое утро мы пили апельсиновый сок, но, если вдруг в доме не оказывалось апельсинов, то Ириска в удивлении по этому поводу лишь смешно пожимала плечами и выпячивала губки. На следующий день я покупал несколько килограмм апельсинов: так ее невнимание превращалось в мою заботой, что всегда ее радовало, и она делилась со мной полученной от меня радостью щедро и безрассудно.
Однажды она разбила один из винных бокалов, которые я привез для нас с Конгресса виноделов. Бокалы были дорогие, но их главная ценность была во внешней хрупкости и почти невидимости. Издалека казалось, что вино вовсе не в бокалах, а словно зависло в воздухе, и даже легкое дыхание отправит это винное облако в путь. Я привез их не столько как особый подарок Ириске, а просто потому, что в этот момент в ее доме не было бокалов, достойных тех вин, которые я приносил. Ириске дорожила бокалами как-то особенно трогательно для меня: всегда придерживала, когда я наливал в него вино, и никогда не ставила в раковину вместе с другой немытой посудой. Возможно, было это потому, что бокалы воспринимались не как ее или мои – они были нашими, общими… А так как общих вещей у нас с Ириской на тот момент больше не было, то бокалы приобретали для нее уникальность и даже значимость. Потом я стал замечать, что некоторые мои вещи тоже постепенно становились общими… Сначала Ириска стала ходить в моих майках, потом стала носить мою джинсовую куртку, а потом вдруг похудела и стала залезать в мои джинсы.
– Если бы у тебя росла щетина, то ты уже наверняка давно бы пользовалась моей бритвой.
– Возможно, – хитро улыбалась Ириска. Так женщины говорят «да», когда сказать просто «да» для них невозможно, потому что это «да» тогда раскрыло бы их очередную страшную тайну.
И вот однажды она чуть задела бокал, тот хлопнулся на бок, и ножка откололась! Я понял это по быстрому всхлипыванию Ириски на кухне. Такой звук возмущения и досады мог возникнуть только в том случае, если бы Ириска порезалась или разбила наш бокал… Я сразу прибежал на кухню, посмотрел на обескровленные руки Ириске, и понял, что одному из бокалов не повезло.
– Я куплю новые.
– Не надо, – всхлипнула Ириска.
– Это просто кусочек стекла. Он не достоин того, чтобы ты плакала, – я быстро выбросил бокал и ножку в мусорное ведро.
– Зачем ты это сделал?! – Ириска рванулась к ведру и достала оттуда расчлененный на две части бокал. – Я придумаю из этого бокала вазочку.
С тех пор мы пили из одного бокала. Из оставшегося… Наливали в него вино и пили по очереди… В этом оказались свои плюсы: мне казалось, что теперь не столь очевидным будет кто сколько выпил, и мои глотки стали больше обычного. Но Ириске это было все равно. И даже после того, как в доме появилось несколько наборов бокалов, мы часто по-прежнему продолжали пить из того первого и единственного.
Однажды я заметил, что по возможности стал приезжать в аэропорты к началу регистрации, чтобы непременно получить в самолете место возле иллюминатора. Заметил я это почти случайно, когда в каком-то маленьком аэропорту не оказалось свободных кресел, и мне пришлось на ногах больше часа ждать начала посадки. Но я продолжал теперь уже сознательно приезжать к началу регистрации, чтобы потом по-детски упереться лбом в стекло, и в полете смотреть на бесконечные облака с редкими размывами. В эти небесные полыньи хотелось всматриваться или просто нырнуть в них в надежде почувствовать что-то новое или понять то, о чем не удавалось даже всерьез задуматься там, на земле… В полете мне думалось обо всем и думалось легко, словно смотришь на все проблемы как будто бы с другой планеты.
Однажды в таком полете я вдруг обратил свое внимание на то, что больше не влюбляюсь. Вот как начал встречаться с Ириской, так и перестал хотеть внимания других женщин, в том числе и секса с ними как одной из форм их внимания ко мне. Я перестал приглашать в кафешки женщин, в которых хотел влюбиться или мне казалось, что я уже влюбился в них. Я перестал приглашать женщин в кино, потому что знал, что посмотрю новые фильмы с Ириской в кинотеатре или скачаю из Интернета и посмотрю их в постели, но именно с Ириской. Возможность как бы случайно прикоснуться к пока еще почти незнакомой женщине в темноте кинотеатра не просто потеряла для меня свое очарование, а стала казаться подростковой непростительной глупостью. Я даже пропустил пару корпоративных вечеринок, к которым раньше эмоционально готовился заранее, настраиваясь на какое-нибудь незамысловатое разочаровывающее любовное приключение. Я перестал дарить шоколадки секретарше директора Верочке, в длинные ноги которой были влюблены даже самые верные женатики нашей фирмы. На Восьмое марта я не подарил цветы симпатичной директорше одного из ресторанов, внимания которой мне всегда хотелось утомительно сильно.
Всматриваясь с десятикилометровой высоты в пустоту неба, я устало понял, почти не думая, что любовь – это всегда неприятности. Влюбленность всегда приносила мне больше разочарований и сомнений, чем радости и нежности. Мне уже не хотелось тепла нового чувства, потому что я знал, что горечь расставания будет сильнее и продолжительнее. Я замечал, что стремлюсь к новой встрече скорее по инерции и с праздным любопытством, чем с надеждой полюбить так, чтобы именно с этой женщиной умереть в один день. И в тоже время каждое расставание было больнее и сложнее, потому что к досаде стали примешиваться сомнения в собственной привлекательности и успешности. Я все чаше мерил себя критериями женщин, которые мне отказывали, и мне это не нравилось, но я уже где-то потерял другие измерительные линейки и почему-то не хотел их искать.
Я хочу лететь к Ириске именно потому, что уверен, что не влюблен в нее. Она – давно знакомая до родственности. С ней развлекаешься, словно сам участвуешь в любимом телесериале. А, может, я уже настолько взрослый, что мне вообще больше не надо никаких чувств?! Пусть будут только положительные эмоции! С Ириской никогда не возникало даже легкой тени негатива. Только немного взаимного равнодушия как непритязательный гарнир типа картофельного пюре или рассыпчатого риса, на фоне которого основное блюдо вкуснее и красивее. Мне нравится даже то, что Ириска не звонит мне по несколько дней, и я не звоню ей, чтобы все накопившееся отдать ей при встрече. Я много думал про Ириску только тогда, когда летел в Москву. В другое время я, бывало, по несколько дней вообще не вспоминал про нее, и это меня не удивляло, не огорчало и даже, возможно, радовало, потому что меня искренне не интересовало, с кем и как проводила Ириска свое время в мое отсутствие.
Я помог Ириске купить почти всю домашнюю технику.
– У меня к тебе все вопросы личные, даже об устройстве холодильника, – любила повторять Ириска.
Она даже записывала какие-то аргументы в пользу выбора той или иной марки стиральной машины или телевизора.
– Однажды мне придется покупать это все без тебя, но теперь я к этому готова, – говорила Ириска.
Тень расставания всегда следовала рядом с нами, словно в нашей жизни не было полудня, когда тени исчезают. Я всегда прислушивался к интонации, с которой Ириска говорила о нашей будущей разлуке, словно готовился к ней, стараясь в ее голосе услышать будущие слова, которые она произнесет в тот момент, когда кто-то из нас начнет другую жизнь. Она говорила о расставании как старые бабушки говорят о смерти – как о чем-то неминуемом, но светлом… Когда нужно будет подвести итоги перед кем-то, кто выше нас, а потом пойти непременно в рай, и провожание будет слезным, но небезутешным. Эта ее и моя внутренняя готовность непременно расстаться, но сделать это легко, словно вздохнуть, сближала нас непонятным мне образом. Иногда мне казалось, что все, что мы делали, сближало нас. И особенно прощания… Они всегда были одинаковые, уходил ли я на несколько часов, дней или недель. Она почему-то никогда не целовала меня на прощание, не провожала, не проверяла не забыл ли я что-нибудь. Она просто смотрела мне в глаза легко и просто – именно так она смотрела каждый раз, когда встречала меня… И поэтому мы всегда расставались будто на несколько минут.
Давно мне не было так спокойно и комфортно приземляться, как в том полете.
Я научил Ириску водить машину и даже более того – научил ее получать удовольствие от вождения.
– Вокруг тебя за рулем сидят идиоты! Это твоя философия жизни за рулем!
Ириска еще крепче, до белизны кончиков пальцев, вцепилась в руль как за спасательный круг.
– Не напрягайся так… Раз ты это знаешь, то тебе уже безопаснее в этом мире… Теперь ты эмоционально готова к тому, что на тебя будут наваливаться со своих полосы машина и справа, и слева. Что передняя машина может вдруг резко затормозить. Что задняя машина может агрессивно пойдет на обгон. Что соседняя машина может замигать левым поворотником и повернуть направо. Это – нормально! А раз это нормально, то, значит, у тебя нет повода нервничать, просто будь готова притормозить или ускориться.
Через неделю мы выбрались из тихих улочек на центральные московские магистрали.
– На сколько метров вперед ты видишь?
– Я вижу машину перед собой.
– Хороший водитель видит машину перед собой и еще на три, пять, десять машин вперед. Там уже горит красный свет, а ты все зачем-то ускоряешься. С этой полосы поворот только налево, а нам туда не надо, а ты еще и не думаешь перестраиваться. Заглядывай вперед, в свое близкое будущее. Это всегда интересно и полезно!
На одном из широких перекрестков Ириска выехала на мигающий зеленый цвет и оказалась зажата между встречными потоками машин. Только ленивый нам не посигналил, а водитель «Мерседеса», который уперся в нас, как в закрытые посреди чистого поля ворота, открыл окно и долго, пока для нас снова не загорелся зеленый свет и не схлынул поток машин, учил нас жизни.
– Спасибо, что не закричал на меня… Все девчонки говорили мне, что на них за рулем всегда кричат, даже учителя в автошколе, которым они платят деньги. И их мужчины тоже кричат, даже если это не их машина. И другие водители тем более кричат. А ты не кричал…