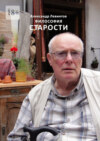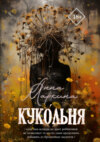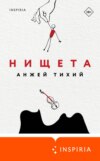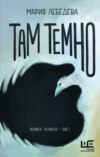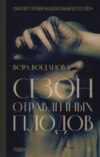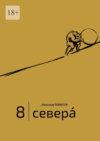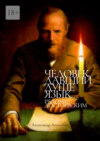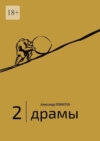Czytaj książkę: «Философия старости», strona 6
Жизнь пожилых людей рассматривается как деградация, постепенное угасание, не приносящее никакой пользы обществу. Эти представления, к сожалению, поддерживаются средствами массовой информации, культурной традицией, социальным окружением и государством, крайне заинтересованным сокращением этого обременения государственной машины и расходной части государственного бюджета [28] Пенсионеры сталкиваются с негативными предубеждениями в отношении себя, что отрицательно сказывается на их самооценке, на представлениях о самих себе и о своем месте в обществе. [2]. Наиболее распространенным является желание старых людей уйти из жизни как можно быстрей и незаметней, минимально утруждая своих близких заботами о них. Так называемые дома престарелых представляют собой скоростной конвейер по отправке людей на тот свет: средний срок пребывания в «собесовских» домах для престарелых измеряется несколькими месяцами.
Стереотипы в отношении стариков влияют и на научные концепции, касающиеся старости. Так, например, предлагается негативная геронтологическая версия, представляющая старение по модели «лавинообразного сбоя систем организма». [71]
А. Швейцер, побуждая человечество к добру, милосердию и самопознанию, развивает мысль о том, что стоит помогать организовывать динамичную, интересную жизнь в старости, вовлекая в процесс этой организации насущные знания и целомудрие пожилых. Ведь именно то, какую позицию занимает общество по отношению к старым и стареющим людям, обусловливает роль пожилого человека в социуме. Более того, именно эта позиция определяет, станет ли старость проблемой или периодом развития для каждого из его представителей. Благоговение перед жизнью в любом возрасте является, по мнению А. Швейцера фактором жизни. «Надо особенно думать и всеми силами поворачивать людей к добру, к ясности, к самопознанию, пониманию смысла жизни, что они такое и как им жить». И в этом – одна из задач образования пожилых людей. Можно помочь людям третьего возраста организовать активную, деятельную жизнь в старости.
В Германии этой проблемой занимался Томае. Опираясь на эмпирические учения и многочисленные исследования, он будировал вопрос о социальной обусловленности старения и предлагал, как минимум, «уравнять значимость социального и биологического фактора, утверждая, что старение – сегодня в первую очередь, социальное явление и лишь во вторую функциональное или органическое изменение».
Немалый вклад в становление и развитие социологии старости внес Розенмайер. Изучая отношения людей различного возраста друг к другу, он указывает на то, как социология юности непосредственно анализирует взаимоотношения молодежи и общества, а проблема отношений между пожилыми людьми и обществом, по его мнению, остается вне поля зрения. Розенмайер обращает внимание на то, что пожилые люди «не считаются значимой частью общества».
К сожалению, в нашей стране положение стариков оставляет желать лучшего: мизерные пенсии, неудовлетворительное медицинское обеспечение, отсутствие социального обслуживания в сельской местности и малых городах и т. д. Из личного опыта: проработав более 50 лет в СССР-РФ, я имею пенсию в 350 долларов, которая не индексируется только на том основании, что я продолжаю работать (и тем продолжаю, вместе со своим работодателем, вносить в Пенсионный фонд вдвое-втрое больше моей пенсии), а в США я за 10 лет работы заработал социальную пенсию и досрочно, в 62 года вместо 67 вышел на 75%-ную пенсию, которая ежегодно индексируется и сегодня составляет 500 долларов. Российской пенсии мне хватает только на лекарства. По данным социологического опроса ФОМ в 2005 году большинство респондентов (70%) согласились с тем, что старость – это период жизни, в котором нет никаких преимуществ. И именно старшая возрастная группа (от 55 лет и старше) чаще всего выбирала такой ответ – 78%, среди молодых (от 18—35 лет) этот процент меньше – 62%. С представлением о старости как о периоде, в котором есть свои преимущества, как и в любом другом возрасте, согласились 26% молодых людей и лишь 13% пожилых. Как видно из этих данных, само старшее поколение оценивает свою жизнь в старости негативно. [11]
По мнению Красновой О. В. и Лидерса А. Г. [29] эйджизм как социальное явление прежде всего отражает интересы и предпочтения трудоспособного населения. Сами же пожилые люди, вопреки распространенным заблуждениям, готовы включаться в жизнь общества и занимать более заметную позицию в нем.
Каждый период жизни имеет свою ценность, свой смысл и свою цель. И в последние десятилетия в научных кругах появляется все больше исследований по изучению старости и старения с философских, социально-психологических позиций. Общество постепенно приспосабливается к глобальной тенденции увеличения продолжительности жизни, пересматривает свои установки в отношении возраста вообще и возможностям пожилого возраста в частности.
Социологические опросы, выполненные исследовательским центром Superjob.ru в 2007 г., показали, что боятся старости более 80% респондентов. 60% россиян и более не желают быть обузой для своих родственников, жить на одну пенсию, экономя на продуктах, лекарствах и пр. Напротив, в европейских странах старость определяется как этап жизни, когда можно отдохнуть от работы и путешествовать.
Для выявления характера отношения молодежи к пожилым людям было проведено исследование методом анонимного анкетирования студентов СГМУ (от 18 до 20 лет) [33] Анкетирование показало следующие результаты:
1) у 57% респондентов старость ассоциируется с ухудшением здоровья, умственных способностей, затуханием организма и следующим этапом после старости – смертью, в то время как 43% из них считают старость таким периодом жизни, когда можно пожить в своё удовольствие, например, прочесть книги, на которые не хватало усидчивости в молодости, поехать в путешествие;
2) большинство опрошенных студентов всегда готово помочь пожилому человеку (например, перейти через дорогу) и с уважением отнестись к его возрасту (например, уступить место в общественном транспорте), меньшинство же предпочитают проигнорировать или помочь, лишь бы «отвязался (-ась)»;
3) ответы на вопрос о доверии своих личных проблем показывают, что около 60% респондентов за советом или моральной поддержкой идут к другу (подруге), 40% – делятся переживаниями с родителями, но никто из опрошенных не обращается к собственным бабушкам и дедушкам (или к специалисту).
4) 60% студентов согласились с тем, что в нашем обществе тенденция негативного отношения к пожилым людям присутствует, а 40% респондентов нынешнее положение дел полностью устраивает.
Согласно результатам анкетирования ценность опыта и знаний старых людей среди молодёжи утратила своё былое значение. Целая жизнь за плечами стариков и возможность дать совет подрастающему поколению во избежание ими ошибок не ставится в приоритет. Помимо этого прослеживается негативное отношение молодёжи к самой старости, как к последнему этапу жизни перед смертью. Большинство юношей и девушек соглашаются с присутствием в нашем обществе тенденции негативного отношения к пожилым людям. В связи с этим необходимость уважительного отношения к людям данной возрастной группы (от 60 лет и больше) чётко закреплена у преобладающей части молодого поколения.
В 2014 г. я в рамках МВШУ «Сколково» я провел исследование «Серебряный университет» [36]. В 2017 году в МГПУ был открыт Серебряный университет, где я – научный руководитель и один из преподавателей (курсы «История и культура Москвы» и «География путешествий»). Ежегодно через этот университет проходят десятки тысяч человек.
Несколько слов в заключении данного раздела.
Это может показаться странным, но философская мысль на протяжении всей истории существования философии практически никуда не продвинулась, мысли древних также свежи как и мысли наших современников – мы ишь топчемся на месте и из века в век повторяем несколько уже порядочно избитых мыслей.
И в этом – коренная проблема культурно-исторического понятия старости.
Взгляд в отдаленное будущее
Этот разговор я хотел бы начать со своей давней и немного гротесковой статьи о том, что может ожидать нас в будущем.
Наше светлое геронтологическое будущее
После международного терроризма и недобросовестности финансовых институтов проблема педофилии, детской проституции и порнографии выдвигается на третью строчку криминальной опасности современной ситуации. Эта тема становится объектом международного сотрудничества и самого громкого обсуждения.
Странно слышать этот, в общем-то, недоуменный переполох: а разве была неочевидна неизбежность этого явления в ходе гонки за здоровьем и долголетием? Как – разве неочевиден был взрыв терроризма – протеста против засилья иудейско-христианской государственности, экономики и морали? Как – разве неочевидны были злоупотребления и надувательства после победы нонпараллелистической концепции финансов (согласно этой теории финансы не являются символом и отражением реальной экономики, реального хозяйства, а представляют собой пространство самостоятельных игр)?
Мы всякий раз забываем, что за любое благо (в отличие от бескорыстного Добра) надо платить.
Стариков неудержимо тянет на детей и невинность. В этом есть не только психологические основания, не только эффект «впадения в детство» – стариков действительно тянет. Отсюда эта необыкновенная и трогательная любовь между бабушками-дедушками и внуками-внучатами. Замечено это было давно: невинность излучает для них долголетие и омоложение. Этот геронтологический секрет был известен и использовался с античных времен (миф о вечно молодой Кассиопее и ее невинной дочери Андромеде) до спецотделения Кремлевки.
Благодаря усилиям медицины и личным усилиям многих по поддержанию и сохранению здоровья, человечество, особенно западные общества, стремительно стареют. Жизнь до ста лет перестала быть экзотикой и превращается в некоторую норму. Еще пара десятилетий – и стодвадцатилетие не будет восприниматься чем-то рекордным и экстремальным.
А это означает, что число потребителей детских сексуальных услуг будет расти и относительно, и абсолютно. Обвинять в педофилии стариков безнравственно – это все равно, что обвинять детей в наивности. И, как и с проституцией, с этим явлением следует смириться и придать ему легальную, разумную и безопасную для детей и стариков форму.
Старение общества имеет, помимо этого, еще несколько неизбежных продолжений и следствий. Одно из них – позднее вступление людей в брак и поздние роды. Всего 30—40 лет тому назад 30-летняя незамужняя женщина казалась окружающим и самой себе безнадежной старой девой. Теперь – это нормальный возраст для первого брака. Раньше роды в 40 лет настоятельно не рекомендовались врачами. Теперь никого не удивляют беременности и роды пятидесятилетних. В большинстве случаев не только матери, но и отцы детей, рожденных столь поздно, великовозрастны. К этим годам накапливаются у родителей заразы и болезни, усложняющие жизнь не только их, но и их детей. Старые отцы – это не только гарантия высокого интелллектуального потенциала детей (отцу Конфуция был 81 год), но и, увы, слабого здоровья, слабоумия, патологических отклонений. Старые матери – это тяжелые роды, сопровождающиеся травмами и потрясениями.
Старение общества – это репродукция физически и психического инвалидного поколения. И чем дальше, тем больше – мы стоим лишь на пороге этой глобальной проблемы.
Есть у этого демографического процесса еще одно неприятное последствие.
Теряя навсегда потенции (и виагра здесь – скорее миф, чем реальное решение), люди вдруг становятся чрезмерно нравственными и блюстителями морали, просто в силу присущей многим зависти. Известно также, что чем безнравственней был человек в пору расцвета своих возможностей, тем более яростным пуританином он становится в период бессилия. Сколько блудодеев и блудниц сходили со сцены в позе и риторике борцов за нравственность! Нужны ли здесь примеры?
А ведь престарелое общество – это еще и основной сегмент избирателей. Дело не только в том, что в структуре населения их доля непрерывно растет: они политически гораздо более активны. Во всем мире старики охотнее молодых и работающих участвуют в избирательных компаниях. Это значит, что, потакая им, политики идут на разработку и принятие законов в угоду этой возрастной группе. Старики своими голосами толкают общество в пуританство на законодательном уровне.
Чтобы понять, каким будет общество нашего светлого геронтологического будущего, достаточно присмотреться к американским домам для престарелых – для бедных, богатых и среднего класса (тут непринципиальные различия). Это – страшная ботаника со скрюченными по птичьи пальцами и клювастыми лицами, покрытыми струпьями яркой косметики, это – безмятежное улыбчивое скудоумие и слабоумие, недержание мочи и слез, немощь и цепляние за жизнь до конца, это лихорадка рук и перемещения на колясках, бессмысленное лежание в одной отдельно взятой палате, это – наихудшая из пародий на Рай, это вызывает отвращение и содрогание: «Не дай Бог мне дожить до такого!». Этих людей невозможно обвинять – они ни в чем невиновны. Они всю жизнь занимались ее продлением и отказаться от дальнейшего продления они не в состоянии, да и помыслить себе такое уже не могут. Они – жертвы идеи долголетия, страшные этим бесконечным угасанием на игле обезболивания.
И вокруг них хлопочет и крутится множество народа, наемного и родственного. Они, растительные, отбирают у молодых время, ресурсы, таланты, растрачиваемые на поддержание и сохранение отживающих форм. Еще раз – я не обвиняю ни этих несчастных стариков, ни тех, кто искренне или по долгу службы отдает себя им. И это – не крик цинизма. Это – модель нашего будущего общества, всего лишь.
Каковы экономические последствия постарения общества? – вот только одно, самое очевидное. Если возраст выхода на пенсию не изменится (а старики, владеющие законодательным большинством, не допустят этого изменения, скорее всего), то срок пенсионной жизни увеличится до 30—40 лет (для справки, в современной России эта жизнь ограничена 3—4 годами, всего лишь, да и то только для того меньшинства, что умудрится дожить до пенсионного возраста).
Предстоящая бездоходная, но полная расходов на медицину долгая жизнь будет заставлять людей откладывать в долгий ящик более чем существенную часть своих трудовых и иных доходов. Возникнет серьезный дизбаланс между деятельностью и результатами этой деятельности (доходами), с одной стороны, и с расходами, потреблением, – с другой. Так как современный рынок имеет гегемонию спроса, то диктат слабого (отложенного) спроса породит застой предложения. Начнется устойчивый застой в инновациях и развитии. При этом общество будет упорно отворачиваться от этой проблемы – ведь тон в нем будут задавать старики. Стагнация и регресс, однобокое развитие медицинского сервиса будут – чем очевидней, тем упорней – не замечаться. Социально оправданная солидарность поколений («я оплачиваю и обслуживаю чью-то старость, потому что впереди – моя старость, которую кто-то тоже будет обслуживать и оплачивать) также будет препятствовать возникновению межпоколенческих конфликтов.
Для обеспечения собственной старости люди будут не только работать с удвоенной энергией, на износ и впустую (не компенсируя затраты себя, а откладывая в пенсионные фонды), но и еще буквально закапывать деньги в землю, приобретая недвижимость, цены на которую из-за этого будут продолжать расти, несмотря на застой. Кроме того, основная занятость неизбежно переместится в обслуживание пенсионеров и престарелых: сервис гуманный, но совершенно непроизводительный. Социальная машина попадет в привычную ловушку: всю трудовую жизнь обслуживать пенсионеров, чтобы потом всю пенсионную жизнь быть обслуживаемым следующим поколением занятых. Это мы уже проходили, когда металлургия СССР потребляла чуть не половину металла в стране.
Старение общества затронет не только вершину возрастной структуры населения. Начнут стареть все – и зрелые, и молодые, и даже дети.
Собственно говоря, этот процесс идет уже давно. Можно сказать, что вся история человечества – это история старения детей. Русское слово «дитя», как и английское «baby» – имитация и звукоподражание сосательному процессу: дитя – это существо, сосущее грудь, но не матери, а женщины, что очень важно: женщина – это существо, способное рожать, здесь впечатан греческий корень gen. В условиях раннего патриархата и на заре рабовладения у большинства людей не было ни отца, ни матери, большинство людей было сиротами, начинавшими работать, как только прекращалось кормление молоком, появлялась речь и способность хождения. «Ребенок» – это одновременно и раб, и способный работать, и сирота, отрываемый от груди и превращающийся из простой собственности в собственность, способную что-то делать, но одновременно и требующую питания и иных забот хозяина. Ребенок – это уже дееспособное, но еще безответственное существо.
Переход из дитяти в ребенка осуществлялся где-то на уровне 4—5 лет, а, возможно, даже и раньше – в 40 месяцев: в большинстве верований и религий этот возраст отмечен как самый важный в жизни человека. В этом возрасте происходит акт самоосознания и отделения себя от внешнего мира, а, точнее, расщепление сознания на внешний и внутренний мир, с тем, чтобы потом, всю жизнь, мучиться вопросом: так какой из этих миров является отражением другого? Где реальность – не сон ли этот мир и не снюсь ли я сам себе? И попутно тут же – не есть ли в старости, в предссмертные сорок месяцев акта отождествления себя с миром (мы так и говорим – отошел с миром) и последующей в смерти аннигиляции двух миров? Не знаю, не знаю… Сорок месяцев – это возраст рождения и вознесения Малхиседека, рождения Будды, это возраст Спасителя, упоминаемый в Апокалипсисе. Увы, это еще тот возраст, когда несчастных из чистилища домов ребенка переводят в ад детских домов для умственно отсталых.
Не зная этимологии слова «child», не берусь судить об английской версии (по-видимому, это слово как-то связано с приплодом скота и скотообразной массы рабов, во всяком случае один из первоначальных смыслов – «плод матери», «плод утробы»), но русская версия исторического взросления детей мне кажется более или менее достоверной и возможной.
Мы все оттягиваем и оттягиваем наше несовершеннолетие и взросление. Меж нас все чаще бродят тридцати-сорокалетние ребята, уже вовсю работающие, но все еще несамостоятельные. А ведь всего сотню лет назад сорокалетние считались зрелыми и даже преклонных годов, уважаемые застарелые акселераты.
Наконец, последнее возможное последствие предстоящего постарения общества.
Именно старикам, лишившимся репродуктивности, будет принадлежать инициатива легализации клонирования человека и создания потомства не примитивными, но уже не работающими средствами, а с помощью генной инженерии.
И тогда настанет эпоха старческой аристократии, гегемонии старейшин и бессмертных, а само общество превратится в атомарное стадо «всех без всех».
Июль 2002
Долголетие или бессмертие?
(по мотивам НИР «Общество отдаленного будущего и его требования к образованию», М., РАНХиГС, 2010)
Мы стоим перед кардинальной дилеммой, перед выбором, который определит всё наше дальнейшее существование и как биологического вида и как цивилизации.
Речь идет о стратегии долголетия, которое нам сулят геронтологи, от умеренных (продолжительность жизни до 200—300 лет) до радикальных мафусаиловых 900—1000 лет. Медицина, экология, биология, комфортные условия существования, наше ответственное и профессиональное отношение к собственному здоровью и жизни, экономика – всё это уже сейчас заточено на долголетие.
Параллельно инженерная генетика ищет пути достижения человеком бессмертия. Собственно, в природе уже создано несколько моделей и механизмов бессмертия (оливы, некоторые виды лососей – всего около семи таких вариантов) и вопрос состоит в том, какой из них наиболее подходящ для человека.
Выбор того или иного пути резко отразится на демографической ситуации. Ниже приведены три принципиально разных поло-возрастных структуры населения:

Рис. 1. Современная поло-возрастная пирамида, типичная для развитых стран, высота пирамиды – 90—100 лет.

Рис. 2. Поло-возрастная структура цивилизации долгожителей
Бочкообразная фигура высотой 200—1000 лет цивилизации долгожителей. Нижняя треть (70—330 лет) – юность (примерно четверть населения), средняя треть (от 70—330 лет до 140—660 лет) – зрелость (примерно половина населения) и верхняя треть (остаток жизни в 70—330 лет) – старость (примерно треть населения, что симметрично юности). Сейчас нам трудно представить, чем можно заниматься в старости 300 с лишним лет, но, я думаю, это будет преимущественно тавтология – забота о здоровье.

Рис. 3. Поло-возрастная структура цивилизации бессмертных
Поло-возрастная структура цивилизации бессмертных. Всё население сосредоточится в возрастном интервале 30—50 лет, в нише омнипотентности (всевозможности, всемогущества). Дети станут редчайшей экзотикой, разрешаемой за какие-то невероятные заслуги перед обществом и человечеством. Симметрично редкими станут и старики, например, как наказание за невероятного зверства преступления. Добровольный уход из жизни будет приветствоваться как подвиг, но не как пример для подражания. Эта модель уже обкатана в «Космическом субъекте» В. Лефевра [37]: каждый член такого общества погрузится в глубочайшее одиночество и будет выходить на коммуникацию с себе подобными только по супер-причинам и поводам, например, для переустройства Космоса. Эта ситуация прямо противоположна Вавилонскому столпотворению, но результаты и итоги могут оказаться похожими.
С точки зрения обсуждаемой темы в цивилизации бессмертных вся проблематика старости исчезнет, вместе со стариками, а в цивилизации долгожителей окажется самой востребованной и жгучей.
Тем интересней.
Но очевидно, что пребывание в пирамидальной поло-возрастной структуре скоро кончится.
Это касается цивилизованных стран, включая Экваториальную Африку и Полинезию (там эта пирамида заметно короче по высоте), но не Россию, где уже более века существует вместо пирамиды зловещая и весьма уродливая, ассиметричная «ёлочка»:

Рис. 4. Поло-возрастная структура населения России, характерная для последних 100 лет
Нечто подобное по своему безобразию наблюдалось во все годы и периоды советской и постсоветской власти – недаром эта статистика и картинка имела в советское время гриф «секретно».
Во что преобразуется она в цивилизации долгожителей или цивилизации бессмертных? – Совершенно непонятно, но есть подозрение, что это уродство уже засело в ментальности и генах нашего несчастного общества и, например, никого не удивляет полное отсутствие стариков в Кузбассе и рудном Урале, отсутствие пенсионеров на БАМе и в районах добычи нефти и газа.
Darmowy fragment się skończył.