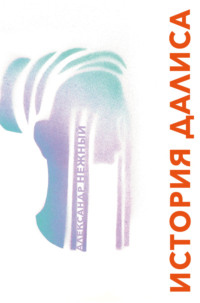Czytaj książkę: «История Далиса и другие повести», strona 3
«Дима, – переведя дыхание, сказал Артемьев. – Давай молиться». «Но мы ведь не в церкви», – отозвался Дима. «Весь мир – наша церковь, – ответил Арсеньев. – Благодарим Тебя, Боже…» И Дима повторил за ним: «Благодарим Тебя, Боже».
9.
Теперь он не мог жить, как прежде, мирясь с большой и малой ложью, несправедливостью, жестокостью, отсутствием сострадания, – словом, со всем тем, с чем так часто приходится сталкиваться в повседневной жизни. Вдруг он открыл малопривлекательную сторону своей работы и подумал, что не так уж неправа была Галя, назвав ее лакейством. Последним его заданием был хвалебный текст о банкире Уколове, своего рода ода о крупном капитале и одном из его рулевых. Банкир оказался пожилым, грузным человеком с отвисшими щеками и мохнатыми бровями, из-под которых смотрели маленькие, цепкие, недобрые глаза. Он неохотно отвечал на вопросы, от некоторых же отмахивался с брезгливой гримасой, то и дело смотрел на часы и всем своим видом давал понять, что делает большое одолжение Артемьеву, снизойдя до встречи и разговора с ним.
Артемьев дотерпел, попрощался – причем Уколов едва кивнул, не поднимая головы, – и заявил своему начальнику и приятелю рыжему и веснушчатому Николаю Кузьмину, что этот Уколов свинья и сволочь и наверняка поднялся на коррупционных деньгах. От него за версту разит. Нужна ода? Будет тебе ода. Но впредь ни об одном мерзавце ты не получишь ни строчки. А ты, хладнокровно отвечал Кузьмин и смотрел с откровенной насмешкой, как на круглого дурачка, не получишь и рубля и будешь изгнан из дома как во всех отношениях никудышный муж. Кто заплатит – о том и напишешь. «Посмотрим», – буркнул Артемьев и задумался о перемене работы.
И что ж? Некоторое время спустя выпало сочинять о владельце фармацевтической компании, о котором едва ли не всему миру было известно, как бессовестно он задирает цены на импортные таблетки, не брезгует продавать просроченные лекарства и временами устраивает в аптеках панику, накануне наступления гриппа придерживая жаропонижающие, а затем поставляя их, но уже по другой цене – и даже не сомневайтесь, по какой. Жил он во дворце с золоченой мебелью, маленьким зоопарком из пары львов, шимпанзе и крокодила, которому собственноручно скармливал кроликов, и в окружении портретов, где он изображен был то среди снегов в шубе из песцов и боярской шапке, то за письменным столом в раздумье над открытым фолиантом, то в похожем на трон кресле, в белой с черными пятнами мантии, с посохом в правой руке, но пока без державы.
На нем пробы ставить некуда, заявил Артемьев и добавил, что не намерен марать об него руки. Кузьмин холодно рассмеялся. «Да они у тебя и так по локоть. Езжай, я договорился. Он мужик не жадный, заплатил, знаешь, сколько? На полгода нам на зарплату. Езжай. Он машину пришлет». Артемьев пожал плечами. Не могу. «Послушай, – теряя терпение, проговорил Кузьмин. – Мы с тобой друзья, вместе учились, прекрасно работали. Какая шлея тебе под хвост попала?» «Коля! – воскликнул Артемьев. – Ты пойми. Мало ли что я делал раньше. Да, делал. Да, писал. А теперь не могу. Коля, – просительно сказал он. – Ты мне дай кого-нибудь другого. Кто бы не так…» «Да черт тебя подери! – перебил его Кузьмин. – Где я тебе других возьму?! Они все такие, кто больше, кто меньше. Иди, заработай немерено денег и останься весь в белом. Ну, хорошо, – он махнул рукой. – Отдам Лапину. Он молодой и не брезгливый. А с тобой теперь как?» Артемьев думал, что теперь как человек, узнавший Бога, он не может солгать, не может делать из порочных людей икону всяческого совершенства, не может ни единым словом поставить под сомнение свою веру. Если он изменит Богу даже в малом, то Бог вправе отвернуться от него. Неверный в малом, вспомнил он, неверен и во многом. Артемьев помялся, вздохнул и промолвил, что с недавних пор в его мировоззрении произошли изменения… «И что? – усмехнулся Кузьмин. – Был материалистом, стал идеалистом? Ничего страшного. Сейчас за это не сажают». «Вот именно, – кивнул Артемьев. – Идеалист. Я, Коля, – уставившись в пол, сказал он, – Бога нашел… Я теперь верующий… Христианин. Со всеми вытекающими». Он поднял глаза и увидел перед собой расплывшееся в улыбке лицо Кузьмина. «Старик! Да ты молодец. Чего ты стеснялся? Сейчас так принято. Многие в церковь пошли. Да и я, – тут он ослабил узел галстука, расстегнул ворот рубашки и предъявил Артемьеву золотой крестик на золотой цепочке. – Вот. В храм ходить, причащаться, пост держать, это все само собой, но при чем здесь работа? Никакого отношения. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Зачем смешивать? Брось. Будь проще – и жить тебе станет легче». Артемьев покачал головой и произнес умоляющим голосом: «Коля, я не могу. Ты говоришь проще – а как? Если ты с Богом, то ни в одном слове не можешь солгать». «Да черт тебя подери, – снова вспылил Кузьмин и, залившись краской – так, что покраснели даже веснушки, – со злостью сказал. – У тебя жизнь в два цвета, черная и белая. А где ты ее такую видел? Думай головой, старичок, и цени, что имеешь. На твое место очередь стоит. Вагон с маленькой тележкой. Вот только ты…» И он осуждающе покачал головой.
Теперь надо было бить в колокола, оповещать знакомых, приятелей и друзей и в первую очередь Антипова, что срочно нужна работа. В ответ поступали разные предложения – от развозчика пиццы до редактора в научно-техническом издательстве. Пиццу Артемьев оставил на крайний случай, а научного издательства попросту испугался, так как наивысшим его познанием в математике была засевшая в голове со школьных лет формула а плюс b в квадрате равняется а квадрат плюс два аb плюс b квадрат, а если взять физику, то там до конца дней суждено было главенствовать закону Ома в его дворовом истолковании: денег нет – сиди дома. Но спустя несколько дней позвонил Антипов, продиктовал номер телефона и назвал имя – Валентин Петрович Серебров, председатель благотворительного фонда «Спаси и сохрани». «Скажешь от Ивана Григорьевича». «А кто это?» – спросил Артемьев. «Большой человек, – ответил Антипов. – Директор свечного заводика. Одного моего приятеля седьмая вода на киселе».
Серебров оказался человеком лет шестидесяти, небольшого роста, с голубенькими мутноватыми, как у месячного котенка, глазками, седой бородкой и быстрой, временами невнятной речью. Имя «Иван Григорьевич» оказалось поистине волшебным. Серебров усадил Артемьева в кресло, справился, удобно ли, ободряюще похлопал его по плечу и сел за стол напротив под большую икону Иисуса Христа. В «красном» углу стоял киот, из которого глядели на Артемьева лики святых, как бы вопрошающих, а зачем ты сюда явился; бледным крошечным огоньком теплилась лампада. Торжество православия было здесь несомненным, и Артемьеву стало не по себе – как в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он встречался с кем-нибудь, о ком было известно, что он не первый год посещает церковь. Он чувствовал, что в сравнении с людьми, прошедшими немалую школу веры, близко знавшими священнослужителей, бывавшими паломниками в монастырях, молившимися в Иерусалиме у Гроба Господня, его, Артемьева, вера была столь мала, слаба и робка, что ему даже неловко было говорить о себе, что он христианин. Почему, спрашивается, он не перекрестился на икону Спасителя? Это было бы весьма уместно и многое сказало бы о нем Сереброву. Но ему – в отличии от людей твердой веры – казалось, что, осенив себя крестным знамением, он выставит напоказ свою веру, тогда как ей приличествует скромность и уединение. Следовало затворить за собой дверь и помолиться втайне – и тогда, может быть, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Впрочем, думал он, людям испытанной веры, наверное, не грозит соблазн самоупоения, гордости и тщеславия – их вера, должно быть, уже прошла Сциллу и Харибду и достигла незамутненных вод христианского океана.
Валентин Петрович тем временем толковал, какой это замечательный человек, Иван Григорьевич, как его ценят в Патриархии и как много добра делает он вообще и для фонда «Спаси и сохрани» в частности. «Божий человек Иван Григорьевич, – с чувством промолвил Серебров, и мутноватые его глазки увлажнились. – И потому, – продолжил он, – раз он вас рекомендует, мы просто обязаны! Но, – он поднял указательный палец. – Нам с вами, Александр Алексеевич, надо выяснить точки, так сказать, соприкосновения. Вернее, одну, главную, без которой наше сотрудничество, – Серебров развел руками, – немыслимо». Артемьев кивнул. Достойно и честно. Без околичностей. Пусть будет слово ваше «да» – «да», «нет» – «нет», а все остальное от лукавого. Он готов ответить правдиво, положив руку на сердце. Серебров одобрительно кивнул. Взгляните, указал он затем на карту России, вместе с портретами патриархов занимавшую одну из стен кабинета. Видите города, поселки и деревни, помеченные красным? Артемьев кивнул. Там живут тяжело больные дети, и туда, к ним, идет наша помощь, к ним протянута наша рука с милостыней… Да не оскудеет она! Эта милостыня собрана народом, доверена нам, и нами отправлена в эти города и веси, чтобы спасти и сохранить жизни несчастных деток. Увы. Не всем мы можем помочь, вот почему наша каждодневная молитва всегда об одном. Господи, произнес Валентин Петрович и быстро перекрестился, помоги страдающим детям! Правая рука Артемьева дернулась и потянулась ко лбу. Господи, дай нам сил споспешествовать Тебе в этом! Господи, внуши народу Твоему, что милосердие не знает границ! Он еще раз перекрестился, и вслед ему и Артемьев отяжелевшей рукой начертал на себе крест.
У нас, с подкупающей задушевностью проговорил затем Серебров, обстановка семейная. Все друзья, единомышленники, посещаем один храм, у одного священника, он духовник нашего фонда, отец Иоанн, чудесный наш батюшка, у него исповедуемся. Когда делаешь святое дело, возможны ли пререкания? ссоры? обиды? Что вы, что вы! Валентин Петрович всплеснул руками. Да никогда! Если желаете, наши подопечные нас воспитывают. Кто будет столь бессердечен, что в виду таких несчастий станет сводить свои мелкие счеты, сплетничать, завидовать, в глаза говорить одно, а за глаза – другое. У нас этого никогда не было, и, даст Бог, не будет. Вот так, мой дорогой, подытожил Серебров, и у Артемьева возникло смутное опасение, не окажется ли он «белой вороной» в семействе Валентина Петровича. Да, с вымученной улыбкой произнес он, у вас здесь… Он не нашел нужного слова и взамен постарался придать лицу выражение искреннего восхищения. Получилось не очень. Тогда он торопливо заговорил, правда, с какой-то дребезжащей ноткой в голосе, что хотел бы в меру своих скромных сил принять участие в этом благородном деле. Серебров пристально на него глянул. Теперь главный вопрос, объявил он. Крещены ли вы? Веруете ли? Бываете ли в храме? Артемьев трижды кивнул и добавил, что с недавних сравнительно пор. Кроме того, неловко было ему говорить о своей вере. Ему казалось, что, рассказывая о своих отношениях с Богом постороннему человеку, он непременно допустит неточность, что-то скажет не так, умолчит о важном и, чего доброго, спугнет свою веру, еще не пустившую глубокие корни в его душе. И вообще, он даже представить себе не мог, как можно передать то неизъяснимое, радостное, тревожное, волшебное чувство, которое теперь обитало в нем и которое он так боялся растратить в никчемных разговорах. Как, к примру, он мог бы сказать, что страх смерти теперь не имеет над ним прежней власти; что ему мало-помалу открывается истинный смысл жизни, заключающийся в стремлении к правде, любви и добру; и что ему кажется, он становится другим человеком – со склонностью более прощать, чем осуждать, но и с большей, чем прежде, непримиримостью ко лжи, насилию и лицемерию.
Что ж, мой дорогой, проговорил Валентин Петрович, доброжелательно взглянув на Артемьева. Милости просим. Но – таков наш порядок – с испытательным сроком. Три месяца.
10.
Несколько дней спустя Артемьев знал всех сотрудников фонда, которых вместе с Серебровым было пять человек. Из них, несомненно, главной – вровень с Валентином Петровичем – была бухгалтер Нина Викторовна Изюмова, неопределенных лет, сухая и прямая, как палка, всегда ходившая в темном – от платка на голове до башмаков с блестящими пряжками. Она располагалась отдельно от остальных – в маленьком кабинете с иконой Казанской Божьей Матери, компьютером и заваленном бумагами столом, за который она садилась ровно в десять и сидела до восемнадцати с двумя перерывами на чай. Среди трех других сотрудников была одна женщина лет сорока, Мила Липатова, смущавшая Артемьева своей привычкой в разговоре засматривать собеседнику в глаза, глубоко вздыхать и говорить, что Господь все управит или Господь читает в сердцах. Были еще: Николай Антонович Полупанов, хмурый человек с густыми черными бровями, утверждавший, что конец света совсем не за горами, а уже при дверях, и Илья Абрамович Голубев, маленький, кругленький, с пухлыми, всегда чисто выбритыми щеками. Знакомясь, он долго жал Артемьеву руку и говорил, рад, очень рад хорошему человеку. Вместе будем служить доброму делу. Познакомился Артемьев и с духовником фонда, отцом Иоанном, писаном красавцем с синими глазами, чем-то напоминающем артиста Алена Делона. Мучительно краснея, Артемьев положил правую ладонь поверх левой, в полупоклоне приблизился к отцу Иоанну и едва слышно прошептал: «Благословите». Тот осенил его крестным знамением, но руки целовать не дал, а возложил ее на голову Артемьева со словами: «Очень рад новому сора-ботнику на ниве Христовой». И голос у него был красивый – мягкий и низкий.
Артемьеву он понравился – как, впрочем, кто меньше, кто больше, и остальные сотрудники за исключением, быть может, Нины Викторовны, бухгалтера, с ее темным, почти монашеским одеянием и низко надвинутым на лоб платком. Но, думал он, где ты видел симпатичных бухгалтеров? В газете, где он начинал, бухгалтером, к примеру, была грузная женщина с неизменной папиросой во рту и оплывшим лицом болотной жабы, которая выдавала зарплату так, будто подавала милостыню назойливому нищему: на, отвяжись. Из кабинета же Нины Викторовны – будем справедливы – сотрудники выходили с довольными и, на взгляд Артемьева, даже просветленными лицами. Месяц спустя после того, как его зачислили в «Спаси и сохрани», в день зарплаты, она выкликнула его фамилию. Он вошел, сел рядом с ее заваленном бумагами столом, она, не говоря ни слова, указала ему, где расписаться, и вручила конверт; он сказал: «Спасибо» и приподнялся, чтобы уйти, но так же молча она придвинула к нему вторую ведомость, пальцем с неровно обстриженным ногтем показала, где следует ему оставить свою подпись, и протянула еще один конверт. Конверт он принял, но смутился и спросил: «А это за что?» Она взглянула на него из-под платка зеленоватыми глазами и не без яда в голосе ответила: «За ваши успехи».
Из сотрудников на месте была только Мила Липатова, готовившаяся к встрече с возможным жертвователем, вставшая перед зеркалом и придирчиво осматривающая свое отражение. «Вот вы, Саша, – обратилась она к Артемьеву, – как вы находите, не очень легкомыслен мой пиджачок?» И она одернула полы пиджака приятных серых тонов. «Строг и вам к лицу, – отозвался Артемьев. – Он дрогнет, ваш жертвователь, вот увидите». «Господь управит», – вздохнула она, села за стол и взяла телефон. «Откройте тайну – садясь напротив, спросил он, – Не знаете ли, что это за второй конверт к зарплате?» «Второй? – она наморщила гладкий лоб и долгим взглядом посмотрела Артемьеву в глаза. – Какой второй? Ах, вы о дополнительном вознаграждении… Вообще-то у нас не принято это обсуждать. Это Валентин Петрович. Он находит возможности… ресурсы… Милость Божия, вот что это». Артемьев не стал донимать ее вопросами, но второй конверт какое-то время еще сидел в нем занозой. Тут зарплату неловко получать, а тебе еще и с неба манна в виде второго и довольно пухлого конверта. Он несколько дней думал об этом, но затем поехал в Рязань, к Леночке Нестеровой, двенадцати лет, у которой обнаружена была редкая для ее возраста опухоль – хондросаркома. Через год после операции возник рецидив. Спасать девочку повезли в Москву, в Онкоцентр, где веселый врач с кавказскими усами описал, как Лене иссекут опухоль, укрепят позвоночник чем-то вроде металлического каркаса и на несколько месяцев усадят в инвалидное кресло. «А встанет ли?» – робко спросила мама, Екатерина Ивановна. «Должна встать!» – бодро сказал врач. Екатерина Ивановна представила Лену, на многие годы прикованную к инвалидному креслу, и ей стало дурно. «А где, – едва промолвила она, – еще… это делают?» Веселый врач стал еще веселее. «В Италии, – засмеялся он. – В Японии. В Германии».
Пока Екатерина Ивановна рассказывала, а Артемьев слушал, Леночка, худенькая девочка с длинными ногами жеребенка, сидела на диване, привалившись к отцу, крепкому человеку лет сорока. «В Германии… в Италии, – с мучительной улыбкой проговорила Екатерина Ивановна. – Где нам такие деньги взять?» «Папа, – тихо сказала Леночка, – а почему у нас нет денег»? «Я посчитал, – обняв ее за плечи, мрачно произнес отец, – нам надо год не есть, не пить, не платить за квартиру… вообще не жить…»
Артемьев написал о Леночке, ее маме, ее отце. И пока писал, пока пытался представить себе обрушившийся на них ужас, охватившее их отчаяние, чувство бесконечного одиночества – думал, что огромной стране с ее нефтью и газом, с ее ископаемыми и рукотворными богатствами, дворцами ее богачей, с ее ракетами, бомбами и танками совсем нет дела до человека, одного из ста сорока миллионов, – как он живет, ходит в магазин, смотрит на цены и прикидывает, что ему по карману, а о чем нечего и думать, как он часами сидит в коридоре поликлиники, как идет в аптеку, где сокрушенно качает головой и говорит, что проще умереть, – во всяком случае, дешевле. Кто его услышит? Кто поймет? Кто обнадежит? Кто скажет, с любовью глянув на него: «Погоди. Потерпи еще немного. Не за горами новая жизнь»? Он горько смеется. Его так часто и так бесстыдно обманывали, что он давно уже никому и ничему не верит.
В жизни, думал Артемьев, и ему становилось зябко от открывающейся перед ним бездны, есть какой-то мучительный изъян, какая-то изначальная несправедливость, если Леночка Нестерова в ее двенадцать лет оказалась в шаге от смерти. Он задал себе вопрос: почему она? Почему милосердный Бог – а Бог милосерден, в чем не может быть никакого сомнения, – послал ей смертельную болезнь? Она наказана? За что? Не может быть такой вины у девочки, чтобы ей было отомщено с такой запредельной жестокостью. За грехи родителей? Послушайте! Неужто наш Господь подобен кремлевскому злодею, мстившему изменнику Родины лютыми гонениями на его родных – взрослых и детей, стариков и женщин – всех без исключения? Но дыхание затруднялось и с лихорадочной скоростью начинало стучать сердце при мысли, что ведь и на Димочку мог бы пасть безжалостный выбор, и что он, Артемьев, как одержимый, носился бы сейчас по всей Москве в поисках проклятых денег, в которых, однако, заключено было бы спасение его ненаглядного, его ангела, его единственного. Послушайте! Христос крестной Своей смертью искупил наши грехи. Тогда, требовал он неизвестно от кого, скажите мне, почему страдают и умирают дети? Тут не одна слезинка ребенка – тут океан детских слез, пролитых от мучений и от леденящего страха перед тем черным, жестоким и беспощадным, что отнимает свет, дыхание и саму жизнь.
Во всяком переживаемом человеком страдании, думал он, и уж тем более в страдании дитя заключен вопрос к мирозданию, без ответа на который трудно жить. Да, Бог дал человеку свободу; да, Бог хочет, чтобы человек сам выбрал между добром и злом; и Бог не виновен – если можно так выразиться о Нем, Абсолюте и Всесовершенстве, – что человека тянет ко злу с куда большей силой, чем к делам милосердия и добра. Но накопленное за всю прожитую нами историю зло не проходит бесследно; его не уносит ветер, не смывает дождь; оно становится проклятым камнем, лежащем на сердце человечества, оно калечит души и уязвляет тела. Как не быть страданию в мире царствующего зла, в жестоком, несправедливом, порочном мире?
11.
После его статьи волшебные изменения произошли в жизни Леночки Нестеровой. Один за другим посыпались переводы; порядочную сумму отстегнул владелец трубы Шах-Магомедов. Милосердие, вспомнил Артемьев, иногда стучится в их сердца. Леночке сделали операцию в берлинской клинике «Шарите», и, прощаясь с ней, доктор Шульц сказал на чистом немецком языке: «Yetzt wirdst du nicht kranken»5.Но странной радостью был рад Артемьев: он рад был за Леночку, которой выпал счастливый билет, и опечален за тех, кто оказался пасынком неласковой к ним судьбы. Когда он сказал об этом, Валентин Петрович возмутился и ответил быстрой своей и временами невнятной речью, что надо благодарить Бога за каждую спасенную жизнь. Обычно помалкивающий Николай Антонович Полупанов вдруг поддержал Артемьева. «Мы тут с грехом пополам одного вытянем, – мрачно сказал он, – а тысяче все равно пропадать». Серебров налетел на него боевым петушком. «Если так рассуждать, – вскрикнул он, – то надо сложить руки и ждать гостью с косой!» «Я не об этом, – отмахнулся Полупанов, и по его лицу с густыми черными бровями, крупным носом и тяжелым подбородком пробежала тень. – Я о том, что мир во зле лежит. И на Небесах терпение истощилось». «Не нам знать, – вступил Илья Абрамович Голубев. – Ты, Коля, – он улыбнулся, – ведь не так часто бываешь на Небесах». Сказав это, он обвел присутствующих ищущим взглядом, как бы спрашивая, оценили ли они его шутку. Но слабой улыбкой ответила только Мила Липатова; Полупанов же процедил: «Все шуточки шутишь». «Нет, нет! – кипел Валентин Петрович и, как дятел, пристукивал по столешнице пальцем. – С такими настроениями… с такими взглядами… нельзя, Коля, нельзя! Ты не веришь в наше дело! И вы, Александр, – обратился он к Артемьеву, – вы у нас человек новый, я вас прошу – никакого уныния, что вот одному помогли, а другим все равно пропадать. Каждый ребенок – это потерянная драхма! Господь вместе с нами счастлив, что она нашлась».
Что ж, думал Артемьев, не так уж он неправ. Если кому бублик, а кому дырка от бублика, если во взгляде государства на человека нет ни капли сострадания, и если невозможно помочь всем страждущим, то пусть хотя бы немногим забрезжит надежда. Мы живем в стране несбывшихся ожиданий. Русская революция начала прошлого века обещала справедливость, а кончила высоченным забором, за которым советская знать жила на берегах реки, текущей молоком и медом; русская революция конца прошлого века сулила свободу и достоинство, а завершилась государственной ложью и полицейской дубинкой. Можно, думал он, жить по Евангелию, а можно по татаро-монгольской прописи, в которой власть существует исключительно ради власти. Можно видеть в человеке образ и подобие Божие, а можно – бессловесную тварь без лица и собственного мнения. Можно беречь свое первородство, а можно променять его на чечевичную похлебку. Он думал также, что нет никого, кто мог бы изменить жизнь так, чтобы она стала милосердней к человеку; следует с подозрением относиться к тем, кто обещает незамедлительное утверждение привлекательных, но вряд ли достижимых свободы, равенства и братства; есть, кроме того, в этом призыве какая-то внутренняя ущербность, какая-то глубинная фальшь, скрытая его звучностью. Из всех попыток осчастливить человечество в конечном счете получалась гадость вроде государства, созданного иезуитами для индейцев Парагвая. Вот если все уверовали бы в Христа – не на словах, не повесив на шею золотую цепочку с золотым крестиком и на этом поставив точку в своем духовном преображении, а свидетельствуя о своей вере своими делами – тогда, может быть, взошло бы над землей солнце правды, сострадания и любви.
Но кто с полным правом может сказать о себе – я христианин? Иов Почаевский с его пещерой, в которой ни лечь, ни встать? Симеон Столпник, тридцать лет простоявший на столпе? Иоанн Многострадальный, который мало того, что носил на себе вериги, пудов, должно быть, не менее трех, и тридцать лет сидел в затворе. – так еще однажды на весь Великий Пост закопался по самые плечи? Боже! Я не выстою на столпе и одного дня; и в пещере не выживу; и вериг не вынесу.
Означает ли это, что христианство – ноша, которой мне не поднять? Или эти пещерники, столпники, веригоносцы лишь часть христианства, знаменующая собой победу духа над плотью? Однако, что будет, если все вдруг полезут на столпы, скроются в пещерах и повесят на себя тяжеленные цепи? Что будет с миром, который они покинули? Между прочим, это еще вопрос: труднее ли стоять на столпе, обитать в пещере и носить вериги, чем жить обычной жизнью среди обычных людей. «Боже, – поднял он голову к низкому серому небу, сыпавшему мелким дождиком, – укажи, как мне жить. Только в пещеру не посылай».
Он стоял у выхода из метро, выглядывая, вывернет ли из-за угла нужный ему автобус. Был июнь, первая половина, не по-летнему прохладный день. «Браток, – услышал он робкий голос, – а, браток…» Он обернулся и увидел заросшего седой щетиной человека в пиджаке с прорванным локтем, спортивных штанах и сандалиях на босу ногу. «Слышь, браток, мне бы согреться…» Артемьев молча смотрел на него. Вот пришел к тебе твой брат и молит о помощи. Дождь, прохладно. Он слаб, голоден; он замерз. Нормальный человек возмутился в Артемьеве. Да ты взгляни на него! На нем печать оттиснута: бомж, алкаш, ночевки по подвалам, попрошайничество, мелкое воровство, за которое его бьют. Вон, бланш у него как сияет. Пропил все: семью, честь, совесть, и твои деньги, если дашь, тут же пропьет. Артемьев вздохнул. Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. «Тебя как зовут?» – спросил он, с несвойственной ему легкостью обратившись к незнакомому человеку на «ты». «Не в этом дело, браток, – отозвался тот. – Мне бы поправиться». «И все-таки», – сказал Артемьев. «Ну, Сергеем. Паспорта не проси, паспорта нет». Не делай глупости, предупредил Артемьева его нормальный человек. Будет скандал, я тебе обещаю. И Евангелие не спасет. Артемьев снова вздохнул. «Ну, пойдем, друг». «Это куда же? – встревожился и отступил на шаг Сергей. – Погоди, а ты не мент часом? Мне в ментовке делать нечего. Все почки вы мне отбили». «Нашел мента, – усмехнулся Артемьев. – Домой ко мне пойдем. Тут недалеко». «Да ты чего… Зачем? Ты лучше дай мне денег сколько можешь». «Пойдем, пойдем. Тебя в гости зовут, а ты упираешься». «Да как-то я сегодня не очень… Не при параде, – мрачно проговорил Сергей. – Я тебя не знаю. Мало ли что…» «Пойдем, – повторил Артемьев. – Отогреешься. Вон как тебя колотит. Вот и автобус».
На второй остановке они вышли, пересекли двор и остановились перед подъездом, в котором жил Артемьев. Магнитным ключом он открыл дверь и распахнул ее перед своим госте. «Входи». Тот потоптался, оглянулся, махнул рукой и переступил порог. Консьержка, Аделаида Павловна, строгая дама с завитыми и подсиненными седыми волосами, недовольно спросила, указывая на Сергея: «Он с вами, Александр Алексеевич?» «Со мной, – откликнулся Артемьев. – Старый товарищ. Сто лет не виделись». «Ну-ну», – им вслед неодобрительно произнесла Аделаида Павловна. В лифте, стоя лицом к лицу своего гостя, Артемьев смог получше рассмотреть его – лоб в морщинах, глаза с покрасневшими белками, отдававший в красноту синяк под правым глазом, грязная рубашка, рваный пиджак… «Все увидел? – усмехнулся Сергей. – Зря ты это…» «Что зря?» «Затеял это зря. Зачем тебе?» «Действительно, – засмеялся Артемьев. – Зачем?»
Дима вышел навстречу и, увидев незнакомого человека, вопросительно посмотрел на отца. «Это наш гость, – объяснил Артемьев. – Сергей… А по батюшке?» «Николай был отец», – хмуро сказал Сергей. «Вот, Дима, Сергей Николаевич к нам пришел». «Очень приятно», – промолвил Дима и еще раз глянул на отца. «Та-ак, – принялся командовать Артемьев, – чего мы стоим? Сергей, ты чего встал столбом? Начнем с ванной. Ты свое все снимай и сандалии твои французские… У тебя какой размер? Сорок второй? Я так и думал. У меня кроссовки почти не ношеные. Давай, давай. Отогреешься, помоешься, сразу лучше станет».
Час спустя все сидели за столом. Чистый, согревшийся, побрившийся и одетый в чистую рубашку с плеча Артемьева и такого же происхождения почти новый пиджак темно-синего цвета, брюки, носки и уже помянутые кроссовки, Сергей Николаевич выпил одну за другой две рюмки водки, после чего с ним случились благотворные перемены. Если возле метро он выглядел на все шестьдесят, то теперь было видно, что ему, наверное, нет и пятидесяти, тусклые глаза просияли и оказались зеленовато-голубыми, на лице как будто бы стало меньше морщин, и единственное, что портило облик гостя, так это отсутствие у него передних зубов. Зная об этом своем изъяне, Сергей Николаевич время от времени стыдливо прикрывал рот ладонью. Между тем, Дима исподволь рассматривал гостя, и видно было, что его томит любопытство, и ему не терпится узнать, кого папа привел в их дом. Наконец, он решился и задал вопрос. «А где вы живете?» – спросил он, и тут же получил от Артемьева выговор: «Не лезь к Сергею Николаевичу. Дай отдохнуть». Но Сергей Николаевич торопливо выпил еще одну рюмку, улыбнулся, прикрыв рот рукой, и сказал, ну, почему пацану не узнать, кто я и откуда и где живу.
Был, был у меня дом в Москве, в Марьиной Роще, хорошая квартира, такая, к примеру, как ваша. А потом… Он потянулся к бутылке, но, перехватив взгляд Артемьева, молвил просительно: «Последняя». И опять он выпил быстро, в один глоток, словно боясь, что у него отнимут рюмку, а, выпив, некоторое время сидел молча, опустив голову, кроша хлеб, собирая крошки и закидывая их в рот. Он захмелел, и Артемьев с опаской подумал, что не знает этого человека, не знает, как действует на него спиртное. Такая была квартира, с тоской сказал Сергей Николаевич. Светлая, Солнечная. Теплая. Жена была. И вот такой же пацаненок, кивком головы указал он на Диму. А потом… А! – махнул он рукой. Секунда, и вся жизнь поломалась. Я водила, у меня КамАЗ был, и на этом КамАЗе поздно вечером на Варшавском шоссе сбил человека. Он еще в сознании был, когда я к нему подбежал. Молодой совсем парень. Кричал ему, куда ты лез на красный свет?! Там же переход подземный, все там переходят, а тебя куда понесло?! Что я теперь делать буду?! У него в груди булькнуло, и он обмер. Насмерть я его сбил. Я виноват?! Нет, ты скажи, я виноват?! У меня скорость была шестьдесят, я всегда аккуратно… У меня же зеленый. А его понесло мне под колеса. Он замолчал, повертел рюмку в пальцах и вопросительно глянул на Артемьева. Тот кивнул. Последняя. Сергей Николаевич выпил, выдохнул, наколол на вилку кусочек селедки, понюхал и вернул его в тарелку.
Darmowy fragment się skończył.