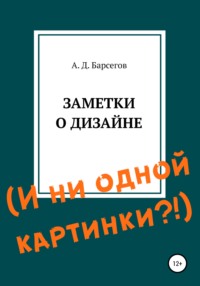Czytaj książkę: «Заметки о дизайне. И ни одной картинки?!»
Отклики, восторги и предложения можно присылать на al.barsegov@yandex.ru
– Как, книга о дизайне без единой картинки?
– Полагаю, отсутствие изображений будет хорошей иллюстрацией той мысли, что дизайн это не только и не столько изображения.
Вокзал, поезд, спешащие пассажиры. Вагон, наконец, трогается, предотъездные волнения позади. Непременно извлекается приготовленная в дорогу провизия… Но сначала жажда… Бутылка лимонада с этикеткой-«слюнявчиком». Оглядевшись, пассажир, возможно, несколько смущаясь, опирается на стол, и примеряется, чтоб открыть бутылку о его край, но в этот момент с облегчением нащупывает под столешней приделанную там скобку-открывалку.
Вот это волшебство, когда предмета как бы и вовсе нет, но в нужный момент он, подобно сказочному герою, внезапно обнаруживает себя, на меня, совсем еще малыша, произвело впечатление, которое, возможно (как это и бывает), во многом определило выбор профессии.
Дизайн часто понимается, как нанесение некоего макияжа на изделие, которое вообще-то и так прекрасно существует само по себе. Или же, как украшение, призванное привлечь внимание к вещи, и заставить купить. Причем, понимается так не только обыденным сознанием, но часто и теми, кто пытается дизайном заниматься (что гораздо хуже).
Но дизайн вовсе не обязательно таков. Порой он вообще незаметен. Дизайн, понимаемый как замысел (в точном переводе одного из значений этого английского слова).
В начале было…
Известно, что слова, переходя из одного языка в другой, несколько меняют значение, чаще всего приобретая более узкий смысл, что и произошло со словом дизайн в русском. Для англичанина это и чертеж, и рисунок, и просто набросок. А также задумка. Вплоть до того, что о коварных замыслах он скажет: evil designs.
В русский язык это слово пришло в значении промышленного проектирования, причем довольно поздно, и в советские времена было оно если не запретным, то нежелательным. Его заменяли довольно неуклюже и претенциозно на «техническую эстетику» или «художественное конструирование» в зависимости от степени близости к практическому применению.
И оба термина были не слишком удачными, поскольку своими значениями тащили в сторону как раз тех смыслов, от которых дизайнеры стремились уходить. За иностранное слово и хватаются-то из-за того, что его можно наполнить нужным смыслом. К примеру, зачем нужно в русском слово вельвет? Оттого, что оно означает не всякий бархат, как, к примеру, в английском, а особый, в рубчик.
И, коль мы уж так отвлеклись в сторону языкознания, замечу, что это единственная рациональная причина иностранных заимствований. Во многих других случаях в них нет большого смысла, что подтверждает ту ироничную мысль, что развитие языка движимо лишь тремя причинами: ленью им ворочать, невежеством и стремлением казаться умнее, чем оно есть).
Впрочем, ради справедливости надо бы отметить, что дело было не только в нелюбви начальства к иностранным терминам – само понятие входило в жизнь с трудом. Даже очень популярный в те времена чешский дизайнер Коварж в советских публикациях именовался изобретателем. Хотя он ничего не изобретал, а был ярким представителем появившегося вместе с широким распространением пластмасс модного в дизайне поветрия создавать разного рода ручки и рукояти, отвечавшие форме руки (нечто похожее – волнообразные выступы – можно обнаружить на руле 21-й «Волги»). Восторги по их поводу – «как это удобно!» довольно быстро иссякли, поскольку позднейшие исследования обнаружили их крайнюю неэргономичность. Выяснилось, что рука в этом не нуждается – при удержании предмета мы безотчетно делаем микродвижения пальцами, мышцы постоянно меняют положение и не так утомляются.
Думаю, будет выглядеть убедительно, если скажу, что я, будучи юношей любознательным, с увлечением листавшим все доступные популярные технические журналы, со словом дизайн столкнулся, уже получив в начале 70-х годов высшее инженерное образование.
Хотя если бы меня, еще студента, спросили, чем я хотел бы заниматься (никто не спрашивал, но я-то этот вопрос себе задавал), обрисовал бы эту деятельность довольно точно. Более того, помню, разрабатывая в рамках курсовой работы проект довольно простого технического устройства – какого-то самописца – удивил преподавателя тем, что не ограничился заданием, а сделал так, чтобы управляться с ним можно было одной рукой.
Ныне дизайн стал модным словом, иногда от его употребления рябит в глазах.
Но я обнаруживаю, что мне как в прошлом, так и теперь оказывается непросто объяснять, чем же мы занимались во Всесоюзном Научно-Исследовательском Институте Технической Эстетики.
Пишем сценарий
Позже я постараюсь показать, что дизайн не обязательно должен быть ярким, броским, экстравагантным, и ассоциироваться с чем-то привлекательным, но непрактичным. Что он может быть и иным. Скромным, малозаметным, а иногда и вовсе невидимым нашим помощником. Что он может быть невесомым, как бабочка, и в то же самое время столь же мощным, как паровой молот.
Но пока попробуем уловить момент, когда появляется необходимость в дизайне?
Человек изобретает пылесос. Идея простая – пыль не сметать, клубами поднимая ее на воздух, а всасывать. Рисуется схема, которая потом впрямую опредмечивается: берется труба, в нее вставляется вентилятор, с одной стороны трубы воздух всасывается, а с другой выходит. Перед вентилятором устанавливается мешок, в котором пыль задерживается.
Довольно скоро выясняется, что форма трубы совсем не так существенна, а важнее оказываются совсем иные вещи: что пылесос нужно где-то хранить, и лучше, если это не труба, а что-то по форме более уместное в кладовке; что всяческие щетки и сопла должны быть под рукой, и еще много чего. Вот тут-то и нужен дизайнер.
Похоже, дизайнер начинает быть необходимым, когда мы поднимаем голову над чертежом, и начинаем видеть предмет проектирования не сам по себе, а в жизненном контексте.
Помните вокзал, поезд, бутылку лимонада, открывалку? Понятно, что такое решение возникло в процессе проигрывания некоего воображаемого сценария. Это в дизайне так и называется методом сценарного моделирования.
Однако гораздо чаще сценарии не продумываются специально – они уже существуют в нас в виде стереотипов. Но иногда изменившаяся жизнь вступает в противоречие с традиционными сценариями. Так знаменитое такси ВНИИТЭ 1963 года, о котором говорят, что оно опередило время, было примером преодоления стереотипа.
Каким был стереотип? Подъезжает автомобиль, из него выходит водитель, открывает багажник, загружает в него чемоданы и прочую поклажу, после чего все чинно рассаживаются по местам, и отъезжают.
Очевидно же – это бытовая сценка из жизни начала прошлого века. Мы можем не отвлекаться на присутствие архаичной подосновы: извозчик несомненно стоял ниже пассажиров на социальной лестнице. Тут важнее другое – жизнь потребовала иных темпов. Быстрее, быстрее! Подъехавший автомобиль раскрывает широкую боковую дверь, куда и загружаются пассажиры вместе с багажом, в том числе и с детской (а то и инвалидной) коляской. Так и рождается концепция. Ныне такой сценарий представляется естественным, хотя до сих пор не распространенным, а тогда был революционным. Другое дело, что технически «овеществить» такой сценарий оказалось непросто. Но это уже следующая задача, она может оказаться сложной, и отложенной на десятилетия, но может оказаться и совсем простой.
Интересно, только ли я заметил, что чайники, став электрическими, очень быстро превратились в кувшины?
Чайник занимает много места, ручка мешает и открывать крышку, и заливать воду. Как же мы прежде этого не замечали? Дело в том, что кипятить воду на огне в металлическом кувшине можно, но неудобно. Будет долго кипятиться, поскольку поверхность нагрева маленькая, да и ручка сильно нагреется. Электрический же свободен от этих недостатков. (И эволюционный ряд сосудов для кипячения воды теперь выглядит так: котелок над очагом, весь овеваемый потоком горячих газов; чайник, то есть объем, распластавшийся на нагретой поверхности плиты; и, наконец, электрокувшин, нагреватель которого находится внутри).
Но бывает, что сама жизнь меняется, а предметное окружение упорно следует традициям, и меняется неохотно, хотя технических препятствий нет.
Вот нынешний дизайнер интерьера первым делом предложит снести стену между гостиной и кухней. Совершенно не задумываясь над тем, что за этим стремлением стоит. А ведь там целая история…
Разве до середины 20-го века не существовало жилищ, где кухня не была отделена от мест, где спали и ели? Да посмотрите хоть фильмы Чаплина! Но это было жилье бедное, грязное и некомфортное, с неизбежной копотью от печи, золой и угольной пылью.
Потом технические возможности изменились, но традиция требовала от «приличного» жилья наличия кухни, столовой и гостиной, и лишь стремление вывести женщину из «кухонного рабства» привело к изменениям. Поначалу они были до смешного робкими: кухню и столовую соединили окошком с дверцами. Примерно такими, какие можно увидеть в общественных столовых в старых советских фильмах – именно эти дверцы захлопывает перед носом героя дерзкая повариха в фильме «Девчата».
Сценарный метод – дело довольно тонкое. К примеру, дизайнер интерьера может подойти к работе, исходя из собственного жизненного опыта, либо из некоего стереотипного сценария, и предложить отшельнику-мизантропу проект, скорее порадовавший бы хлебосола и жизнелюба.
По тому, как процесс овеществлен, подчас можно реконструировать образ жизни, его ритм. Пример, как очень простое решение реализуется далеко не сразу: часы, уже став очень компактными и довольно широко распространившись, еще чуть не сотню лет преспокойно существовали как карманные, и лишь для авиаторов это оказалось неудобным, и они стали размещать их на браслете.
Мне от деда достались старинные часы начала прошлого века. Они и до сих пор исправно продолжают тикать, но в молодости я досадовал, что они наручные, а не карманные, поскольку не давали мне ощущения эпохи. И лишь много позже понял, что дед был большим оригиналом, потому и часы носил необычные – у них еще стекло предохранялось специальной решеткой.
Так вот о духе времени. Чтобы воспользоваться наручными часами нужно сделать одно движение. Карманные же часы – олицетворение неспешности, определение времени по ним всякий раз требует целого ряда довольно эффектных и неторопливых манипуляций.
А вот пример тоже простой, но более сложный в описании.
Если очень внимательно приглядеться, то в Москве и сейчас можно обнаружить места, где были расположены некогда широко распространенные приемные пункты гигантских фабрик-прачечных, (обнаружил, что и сейчас могу на память назвать наш семейный номерок, которым десятилетиями помечались простыни и пододеяльники).
Эти приемные пункты, согласно тогдашним санитарным и строительным нормам, должны были иметь отдельные входы для посетителей с чистым и грязным бельем. Двери располагались рядом, и заходить полагалось сначала в одну, а потом в другую. Работник же прачечной (как правило, один на оба отделения) перемещался внутри от окошка приема к окошку выдачи. В соседнем с нами доме прачечная оказалась расположенной в высоком первом этаже, и эта беготня посетителей выглядела довольно забавно: вы сначала поднимались ступенек на двадцать с грузом грязного белья по одной лестнице, потом спускались вниз, пробегали метров десять до другой, и, наконец, оказывались почти в том же месте, из которого только что вышли, чтобы забрать чистое. Но в этом тоже есть отпечаток времени – жизни более основательной и размеренной.
Как дверь даже в большой дом отпирается маленьким ключиком, так однажды мне открылось…
В доме родителей я нашел нашу старую фарфоровую сахарницу 60-х годов. Пимпочка ее крышки имеет такую неудобную коническую форму, что даже совершенно сухой рукой взять ее очень трудно. Причем настолько, что было очевидно: человек, проектировавший ее, не мог этого не понимать. И мне вдруг стало ясно – ему это было неважно! Похоже, в этот момент мне открылась суть эпохи: мы жили в фантазийном мире! Низкие треногие журнальные столики были ужасно неудобны и неустойчивы, невысокая – до плеча – мебель в тесных квартирах непрактична. Водолазки из чистого нейлона («син-те-тика!» – это слово произносилось с придыханием), надетые под пиджак, были сущим кошмаром, а мы в них не полонезы танцевали.
Но если тему повернуть, она такова: вещи были хозяевами. Их неудобство не смущало – они были символами какой-то новой, грядущей жизни.
Но затронув тему наших ощущений в предметной среде, образно поразмышляем о том, как чувствуют себя вещи в доме.
Надо сказать, что за некоторыми решениями, представляющимися для поверхностного взгляда новациями эстетического плана (или моды), стоит нечто более существенное.
Когда современному карикатуристу нужно изобразить холодильник, какой он изображает? Милый и округлый ретро-аппарат 50-х годов! Но если мы представим кухню середины прошлого века, то обнаружим: эта «самость», отдельность, замкнутость образа холодильника, она неспроста – он и в самом деле здесь пришелец, провозвестник будущего. Чистый, белый, гладкий! Он на этой кухне один такой. Потом к нему быстро стилистически потянутся другие элементы кухни, пока, наконец, не объединятся, сблокируются, неизбежно приняв угловатые формы. Но поначалу он здесь чужой, такой же, как чувствующая себя чужой в тогдашнем жилом интерьере радиоаппаратура.
А уж она-то за несколько десятилетий совершила мощнейшее наступление, вплоть до захвата жилой среды! Кого нынче удивишь интерьером гостиной, который «делают» и «держат» огромный телевизионный экран, акустические колонки, и прочая аппаратура? А поначалу электронные устройства вели себя скромно, телефоны, граммофоны, радиоприемники старательно стилизовались под мебель, порой весьма причудливую и дорогую. Позже, уменьшившись, они уже не могли изображать мебель. Однако в 50-е и 60-е годы проигрыватели и магнитофоны заключались в неприметные фибровые чемоданчики не только потому, что эти, недавно громоздкие, аппараты стало возможно переносить. Они по-прежнему чувствовали себя не очень уютно в жилом интерьере и всем своим видом говорили: могу собрать вещички в любой момент. Однако и мебельные мотивы сохранялись еще долго. Так трехпрограммные радиоточки в полностью пластмассовых корпусах еще в 70-е никак не могли избавиться от атавизма в виде деревянных щёчек.
И вот еще говорящая деталь: в раннем советском телевизоре Ленинград Т1 (а он, по крайней мере поначалу, вообще изготавливался в оккупированной Германии еще до образования ГДР), совмещавшем в себе теле- и радиоприемник (телевещание велось по нескольку часов в день, и иметь два отдельных устройства представлялось излишней роскошью), экран закрывался выдвижной шторкой, обшитой той же тканью, какой был закрыт громкоговоритель.
Подумать только, экран ощущался настолько неуместным в жилом помещении, что после просмотра должен был быть стыдливо прикрыт!