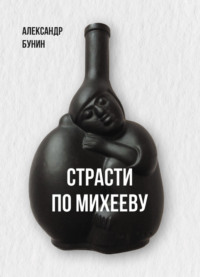Czytaj książkę: «Страсти по Михееву»
© Бунин А. Б., 2022
* * *
Посвящается людям противоположных рабочих направлений, не травмированных навыками электродуговой сварки, но отличающих бетон от битума, а каску от каско.
Путь прораба
Прораб Михеев родился в те далёкие былинные времена, когда бензин стоил дешевле газировки, меж оконными рамами лежали серые от пыли ватные сугробы, в семье был лишь один телевизор, по которому перед ночлегом все смотрели «Чапаева», мужские и женские трусы были трудноразличимы по фасону, а в будущих местах самообслуживания людей едой преобладали жаркие крики сдобных гегемониц прилавка: «Вас много, а я одна!». Страстные тарзаньи вопли уже вышли из детского обихода, а настенный Fantomas ещё не вошёл.
Судьба была не вполне благосклонна к будущему прорабу. В раннем детстве его отдали в музыкальную школу, затем в художественную, а потом и вовсе обронили средь бела дня и отрезов крепдешина в тихом омуте торговых рядов ГУМа, где за неуплату налога на бездетность повсеместно была отключена громкая связь. Находили его приблизительно столько же раз, сколько и упускали из виду. В период бездомных скитаний он ютился в каморках неразговорчивых сторожей, людей эмпатических, далёких от симфонических оркестров и плащей «болонья», принимая горячую пищу из дружелюбных ладоней русскоязычных сотрудниц кассовых аппаратов и разглядывая проходящую мимо нарядную жизнь сквозь осколки цветного бутылочного стекла. Это были не детские впечатления, а впечатления о детстве, презирающем вялые романтические цветы, детстве с особой нравственностью, свободной от предрассудков, навязываемых взрослыми. Будущий прораб проводил время в атмосфере острой внутренней недостаточности клубничного варенья и шпрот в прованском масле, скалывая лёд с крыш низкорослых московских сараев, посильно приближая весну. Покуривал «Джебел» и «Ароматные», поджигал лупой спички, играл в пристенок и сику, позировал за деньги скульпторам, жевал вар, баловал ножичками, негоциировал марками-колониями, жвачкой Chiclets, китайскими фонариками и пускал невнимательно сделанные кораблики по стокам юркой мартовской воды, обретая грубость рук и антивандальное покрытие неоскорбляемой части души. Тогда же он понял, что на свете есть вещи, которых не бывает.
Время, гремя событиями, летело, и вот уже добрый (не злой) десяток лет он не оправдывает беззастенчивых ожиданий и экономических надежд двоюродного (не родного) пенсионного фонда, укрываясь от людской добродетели в складках сельской местности. Полжизни он потратил на то, чтобы доказать свою профессиональную непригодность, но было поздно – его уже наградили многими дипломами за доблестный труд и отдых. Он прекратил носить пиджаки цвета пожарного насоса и отвык выпивать, хотя предрасположенность к алкоголю имел сызмальства, проживая в обществе алкоголизма семейных условий. И даже при виде отары марочных креплёных вин на кустистом прилавке торгового холдинга, он, не моргнув ничем, отважно проходит мимо, и жилка на его поседевшем виске не бьётся тревожно.
Замечательно, что и в зрелом возрасте жизнь Михеева не стала пустой и бессмысленной. Его попрежнему интересуют бумажные книги, бумажные деньги, матерчатые скатерти, джаз и блюз, чистые фарфоровые чашки, замшевая обувь и даже женщины. Погода по Реомюру его тоже интересует, но сильно меньше.
Он не превратился в аморфного антимишленовского пельменя, привыкшего к мягкому теплу синей лампы и тяжести ёмкой резиновой грелки, наивного как марш Иванова-Радкевича, и продолжает приносить пользу своей вертикальной стране по месту регистрации и вне оной. Имея большой запас задумчивости, он не строит далёких планов на близкое будущее, которым управляют простые аналоговые люди из различных по высоте законодательных палаток, бросающиеся мудрёными словами, полностью игнорируя их значение. «Лишний человек», традиционный герой русской литературы – он просто не делает того, чего ему не хочется делать, изредка вспоминая тревожную молодость, когда он двадцать лет бесперебойно восхищался процессом выполнения первого семилетнего плана.
Юбилей прораба
«На старости я сызнова живу;
Минувшее проходит предо мною…»
А. С. Пушкин. Борис Годунов. Пимен
Люди изобрели календарь и пустились рьяно фиксировать прожитые дни, пуская старательные никотиновые кольца. Мозговой штурм этнически полоумных homo sapiens стал обильно плодоносить: до нашей эры/во время нашей эры/после нашей эры – Бронзино/Моне/Пикассо/Сафронов – барокко/рококо/постмодернизм, старожилы не сторожат и как обычно не могут ничего припомнить. А ведь возраст в цифрах не всегда и не всем приятен: старики молодятся, цепляя пёстрые галстуки, а подростки поскорее хотят стать взрослыми, чтобы курить без утайки в местах общего пользования без постороннего пригляду.
Не лучше ли измерять возраст событиями? Или воспоминаниями? Если суммировать время звучания всех песен Битлз, то получится совсем немного – часов восемь-девять. Но какой горячей и насыщенной была та эпоха! Здесь и яркий хипповый Вудсток, и радостные мини-юбки, и много чего ещё. Так и с жизнью в целом. Эпоха счастья не так уж и велика. Всего один рабочий день. Потому что счастье – неестественное состояние человека.
Можно ввести коэффициент качества жизни или бытия (Кб). Хотя «качество», как и многие другие параметры жизни, вещь индивидуальная. Для кого-то высшим мерилом Кб является длительность состояния покоя в тёплых крупновязаных носочках и «сиськой» пива в дряблой руке, а кто-то не мыслит качественной жизни без постоянных байдарочных походов по звонким стремнинам или непуганых песнопений под лязг металлических струн в антисанитарных условиях повышенного содержания бойцов отряда кровососущих. Всякое бывает. Но таким образом каждый индивидуум может сам определять свой возраст согласно предложенной методике, не обращая внимания на настораживающие неоновые огни, сверкающие в удостоверении личности. Глупо проводить исчисление собственной единственной жизни по общему алгоритму, заданному извне посторонними людьми. Перестаньте ограничивать народ! Что за «накал страстей на острие атаки»?
Но время, конечно, струится, как не измеряй. Киту Ричардсу, этому enfant terrible мирового рока, уже под восемьдесят. Стареют кумиры. И ты вместе с ними. Живёшь в пол-оборота к прошлому. Но зато так, как многие в твоём возрасте стесняются. Только ты стареешь в другом месте. Там, где старость наступает быстрее. Там, где хрупкие женщины кладут асфальт, а дипломированные мужчины, не испытывая профессиональной гордости, торгуют оптом и в розницу зелёным горошком марки «Сахарная подружка». Но с удовольствием глядя на заводного Кита начинаешь понимать, что десятки прожитых лет – это не старость. Это мировоззрение. У каждого своё. И общепринятая традиция отмечать дни рождения утрачивает былую торжественность и обязательность исполнения. Каждый сам себе старый хрыч и памятник терпению.
А числа кратные десяти, а в некоторых случаях даже пяти, называемые «юбилеями», вообще искусственные поводы, не совпадающие со строгим классическим определением объекта. «Ах, юбилей – это праздник праздников!». И чего вдруг? Человек, когда захочет, тогда у него и юбилей. Праздник праздников. И не надо насилия, чтоб все были здоровы.
Две зимы не пьёшь – вот и праздник. Вот и юбилей. Есть повод отметить. «Сотку» заработал – и опять-таки праздник праздников. Можешь себе позволить. Без привязки к конкретным датам.
Хотя в традиционных юбилеях есть, конечно, своя нечаянная радость. В этот день ты чувствуешь (на короткий срок) себя самым умным, самым образованным, самым обаятельным и, как и положено, привлекательным. В полном соответствии с произнесёнными вслух речами. И как-то сразу привыкаешь к новой уютной действительности. Утром это проходит, но помимо головной боли остаётся боль за судьбы нашего случайно-закономерного начальства: кем же оно себя мнит, коль ему десятилетиями мастера и подмастерья кружевных видов спорта с услужливыми коротконогими походками льют в уши отравленно-льстивый елей? Не обронило ли оно, часом, чувство объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его и которая худо-бедно всё же копируется и фотографируется, отдавшись на волю тем же гневно отображаемым ощущениям?
Возведение юбилея в ранг особо значимых праздников – дань формализму. Иногда эта «дань» превращается в водевиль с непредсказуемыми последствиями, как у Чехова, например, а иногда и в трагедию, как любая годовщина ВОСР с момента её первого упоминания. Безобиден, и то на первый взгляд, лишь трансцендентный юбилей Сущёвской пожарной части. Да и от самого слова «юбилей» отдаёт каким-то советским официозом и количеством тонн чугуна на душу населения.
Да и чем, скажите, шестьдесят девятый день рождения хуже псевдомагической семёрки с приплюснутым к нему для основательности унылым нулём? Солнце встаёт не под тем углом к горизонту? Не пересекающиеся множества начинают пересекаться и размножаться делением?
Сочетание шестёрки и девятки допускает неоднозначное толкование ситуации и увлекательнее со всех сторон. Как ни крути. Как ни вращай. Да и разница невелика. Твой срок годности ещё не истёк, полный эндшпиль не настал, хотя нога, если б случилось, уж не дойдёт до Казани походкой от бедра. В любом случае, ты можешь сидеть на полу, кормить туалетного утёнка семечками и ничего не делать, охраняя бананы от одиночества, а лампу от абажура. Но зато этот необщепризнанный юбилей ты назначил себе сам.
В каждом возрасте есть своя прелесть. Только не надо примерять на себя костюм жертвы времени и умирать с балкона во всём чистом. Суворов в твои годы Альпы переходил в погодную скверь, чисто Новый Арбат по подземному переходу, хотя действо то и не было таким уж обязательным. Другие пожилые люди вон бадминтонят, впадая в румяный колер, ныряют, всплывают, летают, взмывают даже – и ничего. Здоровенькие. Физически, по крайней мере. Даже черепаховое pince-nez не вдевают в образ, отпуская тяжеловесные остроты при большом стечении вынужденно внимающих отдыхающих трудящихся. Живописненько.
И ты ещё не настолько стар, чтобы не любить и не страдать, хотя уже не гоняешься за трамваями и на смену горячей брандспойтной решительности пришла прохладная рассудительность. И дружишь ты теперь, в основном, по территориальному и профессиональному признакам, и при полном совпадении политических, литературных и музыкальных предпочтений. Надобность в друзьях, конечно, ещё не исчезла и бедовая «старая гвардия» с полувековым стажем в строю и всегда готова ко всему. Но ты не ищешь новых близких знакомств. Что они тебе могут дать? Свои проблемы, свои знания? «Ах, оставьте, графиня!». Хватает уже имеющихся. А узнав ближе можно разочароваться. Или разочаровать. Энергия заблуждений потихоньку иссякает. Цинизм в старости – вещь необходимая.
Ты молод, пока есть с кем вспомнить юность, смеясь над старыми неумелыми фотографиями. Мы думали тогда, что снимаем себя, а оказалось, что снимали Время. Ты же не предполагал, что шестьдесят девять – это так далеко и тебе придётся наблюдать вселенский бунт копий против оригинала. Ты специально уехал в деревню, украсив родные московские улицы своим отсутствием.
Ты, бродячий «шведский стол» пороков, занял позицию наблюдателя по отношению ко многим вчера ещё волнующим процессам. Ты не связан общественным мнением и убавил громкость общественной жизни. Границы твоей независимости расширились. Ты вступил в возраст осмысленного счастья, твои годы тебя стимулируют и вдохновляют, и ты уже не очень презираешь этого коллективного мрачно-смешного помпадура, выдающего под гул продажного одобрения свои мерзкие поступки за подвиги. Ты ведёшь подрывной образ жизни с бумажными книгами, виниловыми пластинками, обувью от Тома Форда и старорежимными джинсами Ливайс. Шестьдесят девять лет – это фаст фуд в медленной очереди. Время морщин времени. И не всегда мимических. Время несовпадения помыслов и поступков. По экстерьеру ты теперь, конечно, уже не «котик» и не пресловутый «зая» с положенными по статусу наградительными коврижками, но и не безразличный снующим прохожим кит, выброшенный на берег безжалостной штормовой волной. И пусть линии затылка и шеи далековаты от былого идеала. Беды нет. Нужно просто чуть изменить требования к идеалу и слегка подправить стандарты в связи с изменившимися обстоятельствами.
Старость – не только утрата некоторых возможностей, но и их новая оценка, совершенствование, долгосрочное абонирование места на сцене, а не в последнем ряду зрительного зала. Ты стал тем, кого не понимал в молодости, только в варианте «лайт», с хард-роком и виски, обретя дополнительную способность излагать суть проблемы без использования элементов ненормативной лексики, хотя, казалось бы, другими словами и не скажешь. Оказывается, скажешь. Не в театре.
Ты как старинное зеркало, которое знает много тайн, но не собирается кричать о них миру. Перед твоими глазами как игрушечные памятники просквозили восемь генсеков, опирающихся на предвыборные каблуки. И хотя Советский Союз был чемпионом мира по выращиванию конопли, смешно не было. А было недолгое историческое время, когда появились робкие и суетные надежды на иную жизнь. Но оглушающая Софья Власьевна в сапогах бутылками, облепленная для верности погонными километрами разномастных погон, снова вступила в свои неограниченные права, повелев называть годы этих надежд «лихими», а взамен предложив согласному на всё народу бедность на фоне тотального телевизионного милосердия в ореоле непримиримой гордости делами давно минувших дней. Талантливые люди уступили место знаменитым, чьи суждения базируются исключительно на величине кассовых сборов. Они имеют об искусстве весьма скудные понятия, но точно знают, что им должно не нравиться.
Государство вновь стало учить тебя борьбе, а не пониманию красоты. Людям приходится бороться за всё: за собственное здоровье, за качество дорог, за чистый воздух, за еду, друг с другом, а ведь на самом деле они лишь преодолевают последствия антисоциальных решений, ставших уже привычными и облачённых в убаюкивающую благостную форму мнимого патриотизма. А разумные (законные) решения могли бы автоматически отсечь многие из видов этой национальной «борьбы» без правил. Но таких решений нет. И вся жизнь – в борьбе. По большей части, со здравым смыслом.
И ты опять поднял паруса и отправился в путь, не зная будет ли ветер, и не ожидая бесплатного светлого будущего. Но лунный свет по-прежнему плещется в стакане твоего портвейна. Как в молодости. И ты никак не повзрослеешь, и всё слушаешь Cream, подняв капот у рояля, соблюдая достойный баланс между «правильно» и «легко».
Ты помнишь те времена, когда высокое положение в обществе достигалось как побочный эффект от полезной этому же обществу деятельности, а не в результате личных связей и грубой носорожьей тяги к придворному статусу (минуя цивилизованные процедуры отбора), позволяющему решать собственные финансовые задачи за счёт покорного населения. У новых начальствующих разночинных величин, приплывших в кресла с родной улицы Торфорезов, не хватает ни опыта, ни образования для анализа ситуации и выработки оптимальных методов управления в меняющемся мире. Они одержимы идеей повсеместной суверенности, вплоть до суверенной таблицы умножения и суверенного «правила буравчика». Они хотят кое-как, но много и быстро. Очень много и очень быстро. Вершина их управленческого успеха – максимальная минимизация потерь. Эффективность деятельности выгодно замыкается на самих себя. Сокрушительные интеллектуалы «нереального сектора экономики», не ходившие дальше десятичных дробей и не ведающие законов экономических теорий. Их цель не развитие, а существование без перемен.
После тряских провинциальных автобусов, щемящих душу родной теснотой, они явили пролетарскую спесь на мало стройных лицах и, исповедуя амплуа «сплошной графини», резко полюбили «шикарный выезд». С пронзительными сиренами и перекрытием дорог. Их позиция вполне обоснована: без звукового сопровождения граждане могут не понять, что эти глумливые лица с комсомольским покрытием, будто едущие после получки невзрачные портреты передовиков труда секции дамского белья, есть очень выдающиеся лица, особенные лица, не такие как все лица, государственные лица с жабо на отлёте, живущие в разноту с народом.
Масштаб бедствия трудно оценить, но его неизбежность не вызывает сомнений.
А ты стал спокойнее. Как безразличный велосипедист. Уже без особого негодования внимаешь песням из сериалов, этой жуткой смеси попсы и частушек, сдобренной украденными фрагментами псевдоромантического блатняка, выдаваемой нынче за soundtrack. Ты понял, что худшее – это точка отсчёта для всего остального, нулевой уровень бытия. Не следует забывать о возможном худшем и стараться оценивать лучшее через худшее.
Тебе стали нравиться простые вещи, хотя ты ещё относительно резв мозгами. Ты проникся пониманием ветра и солнца. Пониманием природы. И даже пониманием нелепой традиции здороваться за руку с посторонними мужчинами лютой зимой. И даже пониманием соседей. Ты не был в яслях, саду и пионерском лагере. Твоё зарождающееся самосознание не было изуродовано идеологией коллективизма. Тем сильнее ты ценишь индивидуальность, любовь и дружбу. Однако поступки некоторых людей отбрасывают их от тебя в бесконечность и навсегда. У тебя нет времени прощать. Бисер кончился, и ты можешь позволить себе немного эгоизма, не забывая о том, что только за возраст тебя уважать не будут. Ты не безжалостен. Тебе безразлично.
«Поговорим о странностях любви…». Поговорим. Отчего ж не поговорить. Тема вечная, а ты и сейчас нуждаешься в тёплом женском участии и предпочитаешь плакаться не в жилетку-пике, а в основополагающее просторное декольте. Такой подход более оптимистичен для обитателя 60-х. То было время бескорыстной любви без модного ныне харрасмента, весёлая профессия «бабника» была востребованной, а уровень конфиденциальности встреч был гарантирован уровнем взаимопонимания.
Ты помнишь всех своих женщин. То были визиты доброй воли с легкомысленными целями. Ещё в седьмом классе ты понял, что воздержание есть наихудшее из извращений и немедленно стал относиться к девочкам иначе, подвергая циничному взгляду их недосягаемую невинность. И стройноногие девчонки-чертовки тебе с удовольствием потакали. Ты помнишь их белые торжественные фартучки и целомудренное буйство лямочек и бретелек сквозь светлые полупрозрачные кофточки. Их застенчивые, украдкой, взгляды. А потом самые смелые из них гуляли с тобой по почти безлюдному вечерами парку Горького, робко вороша мыском туфельки первые падшие бруньки. От стеснительности, будто бы в задумчивости о нелёгкой девичьей судьбе. А ты всё говоришь и говоришь, о себе, о ней, о том, что погода прячет ветер в перчатки и потому зонтики не летают, придавая словам, тем, что нельзя прокричать, торжественную многозначительность.
Молодость это такое состояние, когда ты только-только расплатился за совершённую глупость, а тебе говорят, что вышла новая версия. И ты снова выдвигаешься по скользкому пути модернизации. И тебе снова снится заговор муссонов и в комнату входит предвкушаемая Татьяна, высокая и красивая как Кёльнский собор.
Всех своих женщин ты любил, а они любили тебя. Но в итоге пришлось-таки выбрать одну и жениться. Максимум двух. Ты любил женщин, но не гонялся за всеми привлекательными особами, у которых прощупывался пульс. В мирной жизни нет места подвигу. Ты придерживался традиционного для тактичных мужчин метода ухаживания: женщину надо сначала очаровать, влюбить в себя, а потом уже всё остальное. И не так важно, сколько у тебя было романов – два или две тысячи. Всем этим девочкам ты отдавал часть своей души, скармливая её как хлебный мякиш уткам в пруду.
С годами участие в экстремальных любовных играх становится всё более проблематичным, но битва за всеобщую нравственность ещё не приняла уродливых форм отчётного партсобрания. Мир становится другим, когда не приходится всё время думать о сексе. Ты уже не стремишься знакомить старую мебель с новыми подругами. И давно перестал распускать руки через стол. Революционная ситуация приобрела оттенки уважительного товарищества: низы хотят, потому что так надо, а верхи, в ряде случаев, могут. Но без затяжных сцен и пожарных приступов возгорания. Наряду с любимыми женщинами стали появляться и любимые аптеки.
Молодые женщины и девушки для тебя – как экземпляр редкой бабочки с загорелыми ногами в короткой белой юбке, как картины в Русском музее. Ты на них не смотришь, а изучаешь, как звёзды, не воспринимая даже в качестве временной собственности. Не бывает двух одинаковых женщин, как не бывает двух одинаковых звёзд, и поэтому все твои внутренние разговоры сводятся к восхвалению индивидуальностей. Ты, как почётный старикан, можешь ходить пьяный по этому музею и вежливо приставать к посетителям, осознавая всю бесполезность своих возрастных привилегий, пытаясь потихоньку восстановить былое статус (сука) кво. Жизнь – не сказка. Только в сказках принцессы выходят замуж за дровосеков, а потом годами лечат их от запоев пиявками.
Из огромной разницы в возрасте следует и ещё одно редко устраняемое противоречие: молодые женщины не в состоянии понять, ни тем более оценить твой внутренний мир, каким бы прекрасным или убогим он ни был. А это необходимое условие для гармоничного сосуществования двух относительно развитых существ. Это не вина девушек и не их беда. Это обычное следствие временно́го разрыва поколений. Лет через двадцать-тридцать они смогут сделать это, но надобность в таком понимании исчезнет по естественным причинам.
Женщины постарше ещё волнуют. Особенно те, что пьют водку и при слове «жопа» не грохаются в обморок. Они честны и открыты. Им можно доверить себя. Они – абстрактная живопись и могут рассматриваться как некая знаковая система.
О женщинах-пенсионерах разговор особый. Они по большей части милы, но время от времени в них просыпается дремлющий (покуда) вулкан нерастраченного пыла руководителя и советника высшего ранга. У них появляется категоричность суждений. Инструкции выдаются громко и по всем жизненно важным и не важным вопросам, невзирая на прошлую гражданскую специальность, тематически далёкую от обсуждаемой проблемы.
А если ты заболел, то пропал. За тебя начинают бояться (людям нравится переживать страх без последствий для себя). Ты валяешься как сельдь, а тебя потчуют не теми жидкостями и поправляют подушки. Чувствуешь себя постояльцем мавзолея. Пять звёзд, всё включено. В сговоре с врачами они нагоняют жути, будто ты школьник. В их речах прослеживается предвзятость. Они всегда готовы устроить тебе передвижной стационар местного значения, лишь бы ты подольше торчал дома.
С потомками отношения тоже задались. Они, потомки, оказались наделены наследственной духовностью и бескорыстием ума, что, собственно, и создаёт иногда интеллигента. Но они не относятся к тебе как к душевной и психологической необходимости. Ты физиологическая данность, не друг. И не товарищ и не брат. Они эгоистичны по своей природе. Они стали такими раньше, чем выучили первое стихотворение. Это нормально. Это природа. Наверное, ты тоже был таким. И дети – это не цветы и не смысл жизни, а закономерный результат плотного взаимодействия полов. С определённого момента вполне самостоятельные единицы. И научиться быть ненужным этим автономным ребятам – сложная наука.
Внимание к твоим жизненным мелочам, что, безусловно, радует, сочетается у них с легкомысленным неприятием глобальных, проверенных временем и местом применения постулатов. У них другая система ценностей, более простое понимание жизни, свойственное их возрасту. У них другие чувства. Быть может, сильные, важные, но другие. Их фантазия безгранична. Как, собственно, и потенциал для ошибочных суждений и действий. Их символы эпохи не всегда вписываются в саму эпоху. Вот здесь и нужен ты: при встрече с правильными людьми приходят правильные решения. При условии, конечно, что тебя слушают и слышат. Мало, чтобы учитель умел учить. Нужно ещё, чтобы ученики умели учиться. Только в этом случае процесс познания идеален. Это необходимое условие, но, конечно, не достаточное.
В науке, литературе, живописи, музыке они ничего нового дать тебе не могут, но ты с благодарностью принимаешь их помощь в области технических тонкостей и решении житейских проблем, в устранении которых ты не особенно силён. Не так уж и плохо быть в чём-то дилетантом. Это позволяет видеться с родственниками внепланово.
Ты вручил детворе подарки, значимость которых они пока не в состоянии оценить: финансовую и физическую самостоятельность. Им повезло. Ты не успел потратить всё заработанное по назначению – на женщин и алкоголь, а твоё спортивное прошлое и активное настоящее позволяют сохранять упругую походку и стремление к дальнейшему перемещению в пространстве.
Ты стараешься не усложнять им жизнь, указывая на общепринятые огрехи, не желая обидеть или прослыть нудным, хотя этим своим молчанием подпитываешь их не всегда положительные стремления.
Но от них ты испытываешь радость. И от женского изящества, и от мужской широкоплечести, и от некоторых суждений. И они искренне рады, что ты больше не злоупотребляешь спиртосодержащими растворами и повесил стакан на гвоздь, преодолевая вожделение через отвращение.
Увлечение напитками никогда особой проблемой для тебя не было, но норму Мастера ты, конечно, выполнил, пройдя путь от резкого отрицания всякого алкоголя до нежной дружбы с ним. И с огромным личным глобусом, набитым желанным зельем. Ты не был апологетом минимализма, зубря пошлое «чин-чин». За первый месяц практики ты научился выговаривать только «чин», но уже к исходу второго освоил всю фразу полностью.
Теперь ты исследователь метафизики пьянства. Минули те благодатные времена, когда ты не знал, где проснёшься и мог выпить девять сантиметров водки зараз, не дерзя продовольственным сопровождением. И честно заработанный цирроз отечественной марки не позволит тебе умереть от какой-то там импортной заразы сомнительного происхождения. Это было бы стыдно, особенно тебе, вековечному поборнику всесоюзного движения «Пьянство против наркотиков», зачекинившемуся в Таганском районном вытрезвителе. Твоя любовь к алкоголю – это болезнь замороженных чувств. Из-за этой страстной любви ты выпил море, осложняя себе существование и сквозь похмелье прислушиваясь к жизни. В общем, не растрачивал себя по пустякам. Пьянство – великая традиция русского народа, йога наших широт. На вид ты весел, а выпить хочется.
Ты помнишь всю узкоспециальную терминологию прошлого времени. «Пугни портвейном!», «Становь миску!», «Сделай водку как была!», «Не сыпь с катетом!». И главную из градаций алкогольного опьянения – «в умат», когда твои движения на секунду становятся филигранно точны, ты, едва дыша, ставишь иглу на пластинку, потом, исполнив долг, расслабляешься и падаешь, опрокидывая стол с угощениями. Ты помнишь как пиво в «Пльзене» становилось всё менее и менее чешским. Ты помнишь как твой славный друг-химик, находясь на далёкой практике, пропил с заезжими комсомольцами казённую клеёнчатую таблицу Менделеева размером 3×4, все запасы реактивов и местное колесо обозрения. Ты ещё пил в шумно скользящих трамваях-ресторанах, приставая к прохожим дружелюбными словами сквозь открытое окно.
Ты один из немногих людей в России, кто ни разу не посетил Макдоналдс и не подверг себя ни единому сэлфи. Поэтому размеры твоего аппетита и подробности твоих деяний будут скрыты от недоброй общественности. И хотя пьяницам свойственна искренность, ты никому не расскажешь, как однажды, употребив ёмкую театральную флягу досуха, вышел с цветами на сцену и встретил там обречённую петь Мирей Матье (в Москве кого только не встретишь). Девушка в обмен на букет привычно подставила дежурную щёку, как икону, но ты, по-хозяйски преодолев лёгкое сопротивление, мягко обнял её и хорошенько поцеловал в одинокие губы. По харе не получил, а нездешней красавице будет что рассказать подружкам: такого парня чуть не отхватила! В общем, культурно отдохнул, оставшись в первозданном виде и не желая нравиться окружающим.
Ты никому и словом не обмолвишься о том, как с западно-европейским выражением лица и криками «Враг не пройдёт!», водрузил с товарищами красное знамя на крыше деревянной пивной где-то в Химках, чуть (очень) серьёзно не поплатившись за содеянное. Навсегда останется тайной и тот факт, как ты, после много водки, перелезая под колким холодным дождём через высоченный ночной забор, притомился в пути и уснул наверху этой некрасивой разделительной преграды. Помнится, было сыро, узко, жёстко, но обошлось. И это было здорово. Обескураживающе здорово. И в темноте можно встретить хорошего человека, если воспринимать проблему как приключение.
Теперь ты вышел из возраста поиска собутыльников. Ты снимаешь беспокойство уже не водкой, а старой музыкой, книгами, чёрно-белыми комедиями и нестрашными фильмами направления «нуар». Хотя уже, конечно, больше перечитываешь, чем читаешь, пересматриваешь, чем смотришь. Возгласы «Захвати что-нибудь к лимону!» давно не тревожат твои ушные мембраны. Лицо немного разгладилось и «отвиселось», насколько это возможно, от былых шалостей. Ты избавил общественность от своего пьяного обаяния. Ты стал трезвым экспонатом грустного павильона «Минеральные воды», редким, как уроженец Тосканы с аллергией на кьянти, козий сыр и макароны. Время ускоряется, плотность событий уменьшается. Новая утренняя футболка к вечеру остаётся чистой, обнажая факт полного превосходства остатков ума над физическим состоянием комиссионного организма. Спать в галошах ты ещё не ложишься, но тело твоё уже не храм души, а предмет постоянной заботы, и вихрь былых удовольствий в значительной степени видоизменил фасон и «живость» причёски под волшебные звуки нынешних забавных рингтонов.
Однако упомянутые высокоинтеллектуальные игры – это не всё, чем ты занимался в жизни. На иных поприщах ты тоже слегка подуспел. У тебя куча честных трудовых дипломов «старого» советского образца. По определению доброго друга детства Саши Бельского, «ты не шёршунь, а пчёлка-медоноска». Такие его слова далеко не к каждому обращены. И у тебя есть ученики. Много учеников. И среди них есть даже непьющие. Что удивительно.
И вообще ты сносно расположился в свои шестьдесят девять. «Домик в лесу, кухарка приличная». Твой жизненный путь благополучен. Тебе хорошо под семьдесят и тебе хорошо. Загадочно и хорошо. Пахнет хлебом насущным. В голове происходит течение мыслей и фактов. И ты всё знаешь заранее, хотя и не утратил способности удивляться, отложив в сторонку духовную старость. Ты живёшь как бы по второму кругу, но без сладких ошибок и внезапных открытий.