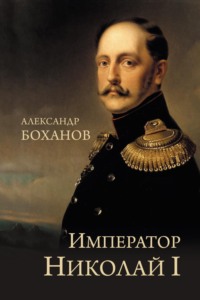Czytaj książkę: «Император Николай I»
© Боханов А. Н., наследники, 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Николай Павлович жил и умер рыцарем…
Историк Н. К. Шильдер
Введение
На Исаакиевской площади Санкт-Петербурга возвышается величественный монумент: бронзовая шестиметровая конная статуя Императора Николая I. Скульптурная композиция, выполненная под руководством архитектора О. Монферрана, была открыта 25 июня 1859 года – через три года после смерти Императора. Уверенно сидящий в седле Самодержец1 запечатлен в парадной форме лейб-гвардии Конногвардейского полка, в каске, с палашом на боку.
Статуя, обращенная лицом к Исаакиевскому собору, базируется на массивном десятиметровом многоярусном постаменте. Верхняя часть его облицована итальянским мрамором, а на сторонах – изображения четырех аллегорических фигур: Силы, Правосудия, Веры и Мудрости. Им придано портретное сходство с Императрицей Александрой Федоровной и тремя дочерями Николая Павловича: Марией, Ольгой и Александрой.
Ниже расположены четыре бронзовых барельефа, изображающие важнейшие события тридцатилетнего царствования. На переднем – Николай I передает под защиту гвардейским саперам своего семилетнего сына Александра в критический момент мятежа 14 декабря 1825 года. На левой стороне постамента барельеф изображает усмирение Царем холерного бунта на Сенной площади в 1831 году, на правой – открытие моста на железнодорожной магистрали Петербург – Москва в 1851 году. На четвертом барельефе представлено награждение М. М. Сперанского за составление 45-томного Свода Законов в 1832 году.
Памятник Николаю I – один из самых величественных монументов имперской истории России. Он вызывает удивление и восхищение не только замечательной архитектурно-эстетической композицией, но в первую очередь – самим фактом своего существования.
Даже те, кто самым поверхностным образом знаком с трагической историей Отечества последнего столетия, не могут не знать, под знаком какой ненависти, в атмосфере какой оголтелой русофобии существовала наша страна в эти «каиновы времена». Революционный провал 1917 года ознаменовался лютыми погромами всех образов, следов и знаков великой Православной Империи.
«Либералы» и «демократы» распинали Русь-Россию клеветническими измышлениями. Коммунисты же уничтожали ее не только словом, но и кровавым делом. Убивали без счета людей, взрывали храмы, оскверняли и разрушали могилы, переименовывали города, острова, проливы, горные вершины; изымали и уничтожали портреты, книги, разоряли и распродавали уникальные музейные коллекции.
Миру разнузданной бесократии историческая Россия была не только не нужна, но и всегда оставалась враждебной. В сознание людей внедрялся «прогрессивный», «научный» взгляд на Русскую Историю, в соответствии с которым она – История – всего лишь летопись борьбы «угнетенных» и «угнетателей». Живая, яркая и многоликая картина минувшего времени была заменена фальшиво-серой идеологической поделкой под названием «освободительное движение».
Многолетняя насильственная мировоззренческая «вивисекция» не прошла бесследно. До сего дня находятся люди, в том числе из круга тех, кого именуют «профессиональными историками», все еще не излечившиеся от последствий тяжелейшей русофобской болезни…
Во время самых мрачных приступов национального беспамятства в центре Петрограда-Ленинграда возвышался величественный памятник Человеку и Правителю, который для всех поколений «прогрессистов» и «социалистов» означал только «реакцию», «угнетение», «насилие». Как такое могло статься, почему это случилось?
Сотни памятников царям, князьям и полководцам разрушали в разных городах страны одним мановением руки, не считаясь ни с какими эстетическими, художественными, материальными утратами и затратами. К началу 1917 года в России существовало около 2 тысяч памятников героям Русской Истории, из которых за годы коммунистического режима уцелело не более 10 %2.
Первыми жертвами вакханалии «отречения от старого мира» стали памятники и обелиски представителям Дома Романовых.
Не все зримые следы былого удалось осквернить, разрушить, переплавить. Наперекор поветрию времени некоторые уцелели.
Больше всего величественных монументов монархам сохранилось в Петрограде-Ленинграде: Петру I, Екатерине II, Александру I и Александру III3. (В Москве не осталось ни одного.) Две конные статуи Петру I (до революции памятников Петру было пять): на Сенатской площади и около Михайловского замка (архитекторы Ф. И. Волков и А. А. Михайлов, открыт в 1800 году)4.
Самый главный, можно сказать, знаковый – Петру I на Сенатской площади (Медный всадник, архитектор Э. М. Фальконе), открытый в 1782 году. То обстоятельство, что он пережил «годины роковые», не вызывает особых вопросов. Петр Алексеевич являлся Царем «природным», миропомазанным. Однако в своем преобразовательском пыле сделать, по выражению Н. М. Карамзина, «из России Голландию» был настолько беспощаден, нанес такой страшный урон духовному строю Руси, что «заслугам» Первого Императора славословили даже придворные историографы коммунистического режима.
Памятник Екатерине II, созданный по проекту М. О. Микешина и открытый в Петербурге в 1873 году в сквере перед Александринским театром, уцелел по чистой случайности. Он никому не мешал, и даже шумные революционно-праздничные шествия, продолжавшиеся многие десятилетия на Невском проспекте, не обращали внимания на сторонний бронзовый взор «русской патриотки немецкого происхождения».
Сохранился в неприкосновенности до наших дней и монумент Александру I на Дворцовой площади (Александрийский столп, архитектор О. Монферран), открытый для обозрения в 1834 году. Колонну венчала не статуя Императора, а фигура Ангела, которому были приданы черты портретного сходства с «Александром Благословенным»5. Однако она была так высоко вознесена над землей (высота колонны почти 27 метров), что воспринималась как художественная аллегория. Монумент, воспетый А. С. Пушкиным, трактовался лишь как архитектурное явление. «Пропаганды царизма» здесь не могли узреть даже самые непримиримые «борцы с прошлым».
С памятником же Николаю I все выглядело иначе. Патетический монумент являлся доминантной вертикалью обширного пространства перед Исаакиевским собором. Сам же Император олицетворял, по расхожей терминологии, «мрак царизма», и голоса о сносе памятника зазвучали сразу же после падения монархии. Эти призывы фактически так никогда и потом не смолкали. Но не случилось, не получилось. Монумент Императору Николаю Павловичу непостижимым образом уцелел6.
Чудо, да и только…
Об Императоре Николае Павловиче написано немало; опубликовано огромное количество различного рода документов, отражающих время его царствования и личность правителя7. Этого монарха к числу «неизвестных героев» ушедшего времени отнести нельзя. Но при всем том в большинстве случаев, в подавляющем большинстве суждения и умозаключения, касающиеся как самого правителя, так и времени его царствования, не выходят за пределы узкоидеологических определений и клише. Подобная зашоренность мировоззрения вполне понятна и объяснима.
Процесс дерусификации, а шире говоря – дехристианизации, сознания деструктивно отразился на всех сторонах жизни нашего Отечества и самым разрушительным образом воздействовал (и воздействует) на корпорацию «профессиональных историков». Почти все они, взращенные в атмосфере позитивистско-материалистических фетишей, не способны постичь внутренний мир воцерковленного человека, так как отказываются понимать и принимать доминантную духовную составляющую этого мира.
Нравственно-духовный облик Николая Павловича в общественном представлении все еще слишком неясен, психологический склад личности все еще чрезвычайно замутнен плоскими и злонамеренными схемами и подтасовками. Начало этому «промыслу» в середине XIX века положил личный ненавистник Царя – «русский барин из Лондона» А. И. Герцен (1812–1870). Минуло более полутораста лет, а фабрикация инсинуаций до сих пор все еще в ходу.
Все же, кто лишен предубеждений, кто смотрел на исторические явления собственными глазами, уже давно признавали в Николае Павловиче высокие нравственные и несомненные государственные достоинства. Сошлемся только на два показательных суждения людей, по всем представлениям и того, да и нынешнего времени относящихся к самому высшему кругу русской интеллектуальной элиты.
Первое принадлежит философу В. С. Соловьеву (1853–1900). Через сорок лет после смерти Николая Павловича он написал: «Могучий Самодержец, которого сегодня благочестиво поминает Русское царство, не был только олицетворением нашей внешней силы. Если бы он был только этим, то его слава не пережила бы Севастополя. Но за суровыми чертами грозного властителя, резко выступавшими по требованию государственной необходимости (или того, что считалась за такую необходимость), в Императоре Николае Павловиче таилось ясное понимание высшей правды и христианского идеала, поднимавшее его над уровнем не только тогдашнего, но и теперешнего общественного сознания».
Еще раньше В. С. Соловьева высокая оценка прозвучала из уст одного из блестящих русских богословов и проповедников Митрополита Киевского и Галицкого Платона (Городецкого; 1803–1891): «Я Николая I ставлю выше Петра I. Для него неизмеримо дороже были Православная Вера и священные заветы нашей истории, чем для Петра… Император Николай Павлович всем сердцем был предан всему чистокровному Русскому и в особенности тому, что стоит во главе и основании Русского народа и Царства, – Православной вере. То был истинно православный, глубоко верующий русский Царь».
За год до смерти Императора проникновенные строки посвятил ему Аполлон Майков (1821–1897), предчувствовавший, что истинный облик Николая Павловича современникам не дано разглядеть, что этот образ вернется к потомкам и только ими будет по-настоящему оценен.
С благоговением гляжу я на Него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В Его есть жребии: ни чувств, ни дум Его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья!
И рвется вся душа во мне Ему сказать
Пред сонмищем Его хулителей смущенным:
«Великий человек! Прости слепорожденным!
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда История пред миром изумленным
Плод слезных дум Твоих о Руси обнажит.
И, сдернув с истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей Твой образ колоссальный
На поклонение народам водрузит».
Рыцарские добродетели – бескорыстие, самопожертвование и преданность, – так зримо и ясно явленные Николаем Павловичем в деле служения России, важны не только для понимания прошлого нашей страны, но и для созидания будущего.
Любовь и Вера питали и поддерживали Монарха в его нелегком каждодневном труде. И этим же только и может жить Россия, если останется сама собой, если граждане ее осознают полноту и животворящую силу той полнокровной сыновней преданности, на которой веками стояла Россия и пример которой оставил в назидание потомкам Император Николай Павлович.
* * *
Император Николай Павлович правил тридцать лет. Данная эпоха в истории России так навсегда и осталась под названием «Николаевской». Это время великих свершений и ожиданий, но одновременно – время несбывшихся упований и горьких разочарований.
Исторические заслуги перед Россией Императора Николая I велики и разнообразны; они запечатлелись как в больших, так и малых делах.
Его волей и трудами было кодифицировано (упорядочено) государственное законодательство, введено техническое и военное образование, проложены первые железные дороги, в том числе и самая протяженная для своего времени в Европе – Николаевская, связавшая Петербург и Москву.
Появились законы о пенсиях, об охране окружающей среды, был принят самый совершенный для того времени акционерный устав, открылся в Киеве университет Святого Владимира, в Петербурге – Технологический институт, крупнейшая и самая современная в мире обсерватория (Пулковская), а в Москве – Межевой институт, ставший центром подготовки геодезистов и картографов.
Много и других новшеств утвердилось в жизни Империи. Все они в той или иной степени явились делом того, кто получил свои огромные властные прерогативы для творения благополучия Отечества. Однако не только «успехи» в формально-статистических показателях интересны и важны при характеристике той или иной эпохи. Может быть, еще значимее не то, «что» конкретно было сделано, а то, «почему» делалось именно это, а не что-то другое. При такой постановке вопроса яснее становятся устремления правителя, с одной стороны, а с другой – возможности социокультурной среды в определенном хронологическом периоде.
Дело Петра I, вознамерившегося когда-то создать великое регулярное государство, было завершено его потомком Николаем I. «Русский ампир» стал фактом, показав свои исторические возможности, но одновременно – и их пределы. Империя предстала во всем своем монументальном блеске, но вместе с тем открылась своими великими противоречиями.
Петра I и Николая I объединяет один органический признак: делу имперского созидания они были преданы всей душой, всем своим естеством. За пределами этой самоотрешительной целеустремленности никакой другой идентичности отыскать невозможно. Хотя труды и усилия они приносили на один и тот же «алтарь Отечества», понимали они свое служение совершенно по-разному. Николай Павлович, в отличие от своего именитого пращура, не был экспериментатором. Он был наделен чувством ответственности не только перед будущим, но и перед прошлым.
Рассудительность и ответственность не позволяли Монарху в вопросах управления государством доверяться скорым и «простым», а на самом деле безответственным решениям. Так было, например, с вопросом об отмене крепостного права.
Николай Павлович прекрасно осознавал, что это – моральное зло, что сам факт юридических прав на владение людьми – явление отжившее и недопустимое. Что, по его словам, этому «рабству» не должно быть места в мире.
Если бы вся проблема ограничивалась только стороной юридической, то нет никаких оснований сомневаться в том, что она была бы решена. Однако «крепостное право», формировавшееся не одно столетие, являлось составным элементом всей социально-государственной системы и затрагивало совокупность не только собственно аграрных, но и общественных отношений.
Простое «освобождение» крестьян от крепостной зависимости не принесло бы ничего, кроме деградации и крестьянства, и всего строя хозяйственной жизни. Юридическая «свобода», не связанная с предоставлением материальных способов ее обеспечения, стала бы огромным бедствием, каким она и явилась в тех западных странах, где крестьяне такую свободу обрели.
Юридическая свобода должна быть сопряжена с владением землей – главным источником существования крестьянина. Однако земля, сельскохозяйственная земля, уже имела владельцев, а потому было важно изыскать способы сделать крестьян свободными, но непременно с земельными наделами, при этом категорически исключив насильственный («революционный») способ перераспределения собственности.
Это была главная дилемма, стоявшая перед властью и лично перед Николаем Павловичем. Путь был один: выкупить землю и передать ее крестьянам. Однако это требовало колоссальных финансовых затрат, а таковых средств у государства не имелось.
Крепостное право сохранилось, но при Николае I было сделано очень много в деле изучения аграрного строя России и в деле его правового упорядочения. Никто из предшественников-императоров не сделал столько важного в этой области…
Николай Павлович первым из числа правителей-императоров ясно осознал то, что Россия – не просто Великая Империя, но что это – Православная Империя. Отсюда проистекали содержательно и совершенно иные, ранее неизвестные импульсы и мотивы, влиявшие на разные стороны внутренней и внешней политики страны.
Николай I был, как точно выразился его биограф Н. Д. Тальберг (1886–1967), «человеком вполне русским». Но русским он был в силу того, что являлся человеком «вполне православным»8. Даже имя его оказалось совершенно необычным. Впервые в истории правящих династий на Руси он был крещен Николаем в честь высокочтимого Угодника Божия Николая Мирликийского.
Он любил Россию простой и полномерной любовью, и это сыновнее чувство никогда не имело никакой нарочито-патетической окраски. По-иному он жить и чувствовать не мог. Замечательно кратко выразил свою «монаршую русскость» в письме сыну Цесаревичу Александру Николаевичу в июле 1837 года: «Я стараюсь в тебе найти залог будущего счастья нашей любимой матушки-России, той, для которой дышу, которой вас всех посвятил еще до вашего рождения, за которую ты также отвечать будешь Богу!»
По словам хорошо его знавшей фрейлины Императрицы графини А. Д. Блудовой (1813–1891), добродетели и недостатки Императора являлись «большей частью именно добродетели и недостатки русского человека вообще, и хорошие качества у него, как и у народа, далеко превосходят дурные; в них нет, по крайней мере, ничего мелкого».
Графиня была совершенно права: сиюминутно-мелкого, личностно-суетного в делах и словах Николая Павловича отыскать невозможно. Он всегда смотрел на себя и свое предназначение как на священный долг – тяжелый, нежеланный, но и неоспариваемый; воспринимал личное служение как религиозное послушание.
В конце 1825 года, вскоре после воцарения, Николай I сказал младшему брату Великому князю Михаилу Павловичу (1798–1849): «Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божией милостью, я буду Императором». Он свою клятву сдержал и действительно отвел вполне реальную угрозу революционного краха.
Будучи полностью и безусловно православным, Николай Павлович страстно и последовательно ненавидел все формы революционности, видя в том не просто разрушение традиционного мироустроения, но в первую очередь – богоотступничество. С еретиками же и богохульниками не могло быть никаких «соглашений», не могло существовать никаких компромиссов.
В этом отношении он оставался последовательным и неколебимым. Его неприязнь к «конституции» и парламентским формам правления вызывалась убеждением, что это – «сделка с революцией», что это – уступка тем и тому, что разрушает вечное, целостное и неподдельное. Он знал, видел и прекрасно понимал, что там, где воцарились «свободы», именно в тех странах быстрее всего и наступает упадок Веры Христовой. Для России же подобный путь – смерти подобен.
Без искренней и полной Христопреданности Николая Павловича невозможно понять политику России по утверждению Православия на Святой земле, приносившую зримые плоды, но, с другой стороны, породившую столкновение геополитических интересов великих держав, обусловивших Крымскую войну 1854–1856 годов.
Задолго до окончательного распада Османской империи он чувствовал, что именно здесь – опасный узел напряженности и конфронтации, чреватый непредсказуемыми последствиями. Император письменно и устно старался убедить западноевропейских лидеров, что необходимо мирным путем решить эту проблему «больного человека», и готов был взять торжественное обязательство отказаться от каких-либо территориальных приращений для Российской империи.
Ему не верили, чистоту и искренность помыслов Царя не хотели признавать ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в Берлине. В своем русофобском ослеплении правительствам западноевропейских стран везде виделась только «агрессивная экспансия» России. Прошли десятилетия, и прозорливость Николая Павловича получила признание даже в традиционном мировом центре антирусских настроений – Лондоне9.
Несомненные государственные заслуги Монарха, конечно же, не избавляли его от ошибок и заблуждений, являвшихся как бы следствием великих нравственных добродетелей.
Он не понимал и не принимал двуличие и лицемерие не только в обычном человеческом обиходе, но и в мире высокой политики, а потому оказывался единственным бескорыстным рыцарем среди мировых правителей, для которых имели значение только узкие земные выгоды и интересы. Николай Павлович являл совершенно иной пример.
Будучи честным и открытым, был убежден, что и другие монархи «милостью Божией» столь же откровенны и нелукавы, как и он. Никогда не бросая слов на ветер о дружбе и любви, Царь полагал, что это – необходимое правило для всех и вся. Ему были непредставимы глубины и масштабы нравственной деградации; те приемы цинизма, ханжества, двурушничества, ставшие давно обыденными в европейской политической игре. Оттого и проистекали в его жизни личные разочарования и политические неудачи…
Конечно, он не был политическим слепцом. Его скорее можно назвать Царем-идеалистом, но не оттого, что увлекался какими-то несуществующими и невероятными философскими или социальными «идеями», а потому, что всегда оставался преданным лишь одному, вечному и бесспорному Идеалу – Иисусу Христу.
Фрейлина А. Ф. Тютчева (в замужестве Аксакова, 1829–1889) – дочь поэта Ф. И. Тютчева (1803–1873) – назвала Николая Павловича «Дон Кихотом Самодержавия». Это определение в данном случае вполне уместно, если само нарицательное имя «Дон Кихот» воспринимать в первичном его значении, как обозначение человека, беспрекословно преданного чести и долгу.
Беззаветно преданный Богу, он не мог принять положение – это просто не укладывалось в голове, – что среди европейских правителей он оставался единственным стражем-христианином, выполнявшим свой долг перед Всевышним не только в образе частного лица, но и в качестве Монарха.
Когда Король Пруссии или Император Австрии уверяли Российского Императора письменно и устно в своей «неизменной дружбе», то он верил в это потому, что не мог не верить. Ведь подобные слова и заверения давались перед Лицом Божиим; это не просто «дипломатия», а незыблемый канон, обязательный для каждого христианина. Потому он так последовательно и целенаправленно поддерживал Священный союз, созданный в 1815 году после разгрома Наполеона для защиты христианских принципов в мировой политике.
Никаких политических, экономических или стратегических преимуществ и преференций Россия от этого не извлекала и не преследовала. В то же время такие страны, как Пруссия и Австрия, опираясь на братскую поддержку России, вели свою политическую своекорыстную игру, извлекая вполне очевидные текущие выгоды из нравственно-бескомпромиссной позиции Царя.
Николай Павлович был последним в европейской истории стражем легитимизма, базирующегося на нераздельных христианских принципах иерархии и патернализма. Потому в 1849 году он наперекор рациональным выкладкам и расчетам бросил Русскую армию на подавление венгерского восстания, угрожавшего целостности Австрийской империи и существованию Дома Габсбургов.
Взойдя на престол в 1848 году, молодой Австрийский Император Франц-Иосиф (1830–1916) называл Николая Павловича «отцом-благодетелем». Как признавался Русский Царь графу П. Д. Киселеву (1788–1872), «мое сердце приняло его с бесконечным доверием, как пятого сына».
Однако прошло всего несколько лет, и Австрия заняла резко враждебную позицию по отношению к России. Подобное развитие событий стало крушением не только легитимистской политики Николая I, но и предательством исходных христианских принципов Священного союза. Однако Николай Павлович в том крушении повинен не был, исполнив роль благочестивого и благородного правителя до конца.
Замечательно точно психологический строй личности Императора охарактеризовала в своих мемуарах его дочь Ольга Николаевна (1822–1892, в замужестве Королева Вюртембергская):
«Когда он узнал, что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество никогда не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаваться унынию; но он понял, как ничтожен человек».
* * *
При Николае Павловиче Россия стала возвращать себе то, что было отброшено и предано забвению со времени Петровской «голландизации» страны, – национально-государственное самосознание. Это не было, как иногда утверждается, только «имперской идеологией»; идея о «величии империи» осеняла весь XVIII век. Но петровско-екатерининское «величие» отражало только внешний абрис страны, ее размеры и государственную мощь.
При Николае I приходит осознание, что Россия не просто великая мировая держава, но и то, что она – уникальна, неповторима, что не только не стала за сто лет «Голландией», но и никогда не сможет ею стать, потому что она – обитель Православия. Возникало понимание нового содержания, иного смысла русского исторического бытия, совсем не сводящегося теперь только к калькированию, копированию европейских форм, норм и приемов. Складывается русское национально-государственное самосознание, явленное великими творцами и подвижниками.
Достаточно привести только ряд религиозных и художественных имен-явлений, чтобы понять грандиозный масштаб культурного фона Николаевской эпохи.
Святые: Серафим Саровский (1759–1833), Митрополит Московский Филарет (Дроздов; 1783–1867), оптинский старец Амвросий (Гренков; 1823–1891). Писатели и поэты: С. Т. Аксаков (1791–1859), Е. А. Баратынский (1800–1844), П. А. Вяземский (1792–1878), Н. В. Гоголь (1809–1852), В. А. Жуковский (1783–1852), И. А. Крылов (1769–1844), М. Ю. Лермонтов (1814–1841), А. С. Пушкин (1799–1837), Ф. И. Тютчев (1803–1873), А. С. Хомяков (1804–1861), Н. М. Языков (1803–1845).
В этот же период жили и творили замечательные скульпторы, архитекторы, художники, композиторы: А. А. Алябьев (1787–1851), А. П. Брюллов (1798–1877) и К. П. Брюллов (1799–1877), А. Е. Варламов (1801–1848), А. Н. Верстовский (1799–1862), А. Г. Венецианов (1780–1847), И. П. Витали (1794–1855), М. И. Глинка (1804–1857), А. А. Иванов (1806–1858), О. А. Кипренский (1782–1836), В. А. Тропинин (1776–1867).
С бесспорной очевидностью ясно одно: именно при Николае Павловиче необычайным многоцветием является миру самобытная русская культура. Венчают этот «золотой век» два гения: религиозный – Серафим Саровский и художественный – Александр Пушкин.
Конечно, Николай Павлович специально не созидал этот самый «фон»; во многом он проистекал из другого времени. Однако процесс национально-культурной самоидентификации, наблюдавшийся во второй четверти XIX века, побудительные импульсы которого исходили с вершины властной пирамиды, не могли не сказаться благотворно на культурном расцвете России.
Император оставил заметный след в творческой биографии и судьбе многих творцов, по отношению к которым выступал покровителем-попечителем. Достаточно назвать Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. И. Глинку, А. А. Иванова.
Он умел ценить то, что талантливо, светло, значимо, и по праву иерархического старшинства играл роль не только наставника, но, так сказать, «прокормителя». Вопреки тенденциозным домыслам нет ни одного свидетельства того, чтобы в этот период некое дарование было творчески «задушено» рукой «властелина-тирана».
Николай I был властелином, но никогда не был «тираном», т. е. правителем, упивавшимся своей безраздельной властной прерогативой, руководствовавшийся своими настроениями, прихотями, сиюминутными желаниями. Подобное ему было совершенно чуждо. Он являлся не только верховным стражем закона, но и первым и самым ревностным его исполнителем. В истории Империи10 он оказался первым, так сказать, «законопослушным самодержцем». Неукоснительно старался исполнять не только Закон Сакральный, но и закон формальный, написанный его коронованными предшественниками.
Как Монарх он принимал даже то, что как человек принимать не хотел. В политике собственным желаниям, симпатиям и антипатиям никогда не позволял господствовать над собой, а уж тем более придавать им форму государственного действия.
Наверное, самый яркий и показательный пример – отношение к части Польши, входившей в состав Российской империи и носившей название «Царства Польского». Старший брат Николая Павловича, Император Александр I, даровал в 1815 году Польше конституцию.
Когда Николай Павлович вступил на Престол, он получил в управление не только Российскую империю, но и два конституционных автономных района – «Царство Польское» и «Великое княжество Финляндское». Фактически это были автономные государства, имевшие свои армии, внутреннее управление, независимые финансы и даже собственное подданство. Главой этих полусуверенных образований являлся Русский Царь.
Конституция Польши предусматривала, что Император Всероссийский коронуется на «Польское Царство» в Варшаве. Несмотря на свое личное нерасположение, Николай Павлович неукоснительно следовал законодательному нормативу и в мае 1829 года короновался в Варшаве.
Это была несуразная ситуация: он уже короновался на царство в августе 1826 года в Успенском соборе Московского Кремля. Теперь же приходилось короноваться как бы второй раз, хотя «Царство Польское» признавалось и российским, и международным правом неотъемлемой частью России. Однако Николай I, как беспрекословно почитающий традицию, принял то, что казалось алогичным, но что было внедрено в жизнь его братом-предшественником Александром I.
Нет никаких оснований сомневаться в том, что Николай Павлович и дальше бы оставался «конституционным монархом» Польши11, если бы поляки не разрушили эту историческую коллизию. Они сами изменили конституционной клятве, восстали против власти Царя и провозгласили «независимость». Подобное предательство привело к ликвидации особого статуса этой части Российской империи.
…Император умер еще совсем не старым человеком, не дожив до 59 лет. И с первых, еще неясных детских своих лет и буквально до последнего земного вздоха он думал о России, он «дышал ею» и старался сделать все для ее благополучия. Многое ему удалось, но еще больше осталось нереализованным. Неудачная Крымская кампания, завершающая его царствование, набросила как бы мрачную вуаль над всем этим примечательным периодом Русской Истории. «Публицисты-прогрессисты» и «историки-инквизиторы» немало потрудились, чтобы представить эту эпоху в самых мрачных красках.
Вся эта тенденциозная и несправедливая ретушь затемняет и подменяет красочное многообразие русской жизни, а из Императора Николая Павловича делает какого-то демонического истукана. Новые времена требуют и иных подходов, свободных от разнузданных идеологических манипуляций.
Образ Николая Павловича не стал лишь тенью далеко ушедшего времени. Он важен и для всех «новых» времен. Замечательно выразительно о том в год столетия со дня смерти Николая I написал архимандрит Константин (Зайцев)12: