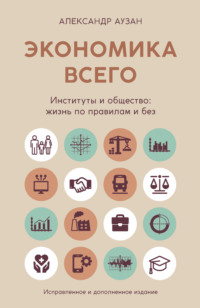Czytaj książkę: «Экономика всего. Институты и общество: жизнь по правилам и без»
«В отличие от среднего класса элиты могут использовать заграничный набор институтов и выбирать из них лучшие: техническое регулирование в Германии, банковскую систему в Швейцарии, суд в Англии, финансовые рынки в США. И пока у элит есть возможность использовать эти международные институты, они будут препятствовать нормальному институциональному строительству внутри страны, чтобы выдавливать из нее доходы, которые потом можно использовать на международных рынках. Но когда элиты оказываются в жесткой зависимости от остальных жителей страны, которые предъявляют спрос на институты, у них не остается иного выбора, кроме как взяться за строительство институтов. Им придется инвестировать в страну, копировать какие-то опыты, искать свои решения. Институты появятся и будут работать, потому что мы, жители страны, предъявим на них спрос».
Александр Аузан
© Аузан А. А., 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2025
Азбука Бизнес®
Предисловие автора
Один мудрый историк сказал: «Ведущие экономисты беспокоятся, что институциональная экономика претендует на главное направление в мировой экономической теории. Они заблуждаются. Институциональная экономика мечтает не о господствующем положении в экономической теории, а о превращении в новую социальную философию». Я думаю, идеи институциональных экономистов заслуживают внимания, потому что позволяют делать выводы об устройстве жизни в целом и отношении к ней в частности.
Институциональная экономика – наука о том, почему и как мы сами себе создаем ограничения экономических действий, а потом выбираем из этих ограничений вариант поудобнее. Мы не можем обойтись без этих норм, потому что, увы, не слишком умны и не слишком честны. В итоге возникают силы социального трения, которые можно снизить только разумным устройством правил, то есть институтов. А из-за того, что эти силы трения – трансакционные издержки – всегда положительны, достижение оптимального результата невозможно. Вы всегда имеете выбор между несколькими вариантами, каждый из которых по-своему плох. Вот, собственно, и все, а дальше эта простая мысль применяется к разным областям: собственности, организации управления фирмой, политике, истории, праву… Вы всегда можете сами придумать, где применить эту логическую схему.
Есть у меня подозрение: то, что я изложил выше, для вас, как людей, интересующихся экономикой, не откровение. Вы догадывались, что так все и есть, да только учили-то вас другому. Вас учили выбирать единственно правильный путь, достигать оптимального результата. А в жизни, видимо, все устроено несколько иначе. Это понимание устройства жизни может оказаться вам полезным для вашей работы и размышлений о самых разных предметах нашего бытия.
Сознаюсь, что со времени появления идеи этой книжки прошло почти пятнадцать лет. Видимо, что-то такое получилось, благодаря чему книжка продолжает жить, переиздаваться, читаться. Пусть еще поживет в таком виде. Я вынужден с уважением относиться к тексту, который существует отдельно от автора уже полтора десятилетия. Поэтому я не менял примеров, иллюстраций, пояснений, относящихся ко времени создания книги. Но алгоритмы и закономерности, подтверждаемые этими примерами, продолжают, на мой взгляд, действовать и в нынешней нашей жизни.
Однако за прошедшие пятнадцать лет появились темы, которые не были охвачены. Они возникли потому, что ни жизнь, ни исследования на месте не стоят.
Сначала про жизнь. За эти годы, похоже, родился принципиально новый тип институтов. Такого раньше не было. Это не привычные институты, которые поддерживаются силой государства или силой общественного мнения. Новые институты поддерживаются силой технологий искусственного интеллекта. Я имею в виду цифровые платформы с агрегаторами. Из коронакризиса они вышли доминирующей силой этого мира. Способность технологического инфорсмента автоматически исполнять те правила, которые записаны в пользовательском соглашении, – это конкурентное преимущество таких институтов. Они потеснят привычные институты, поддерживаемые государством или общественным мнением. Хорошо это или плохо? Увидим.
И второе. За эти пятнадцать лет мы довольно много поняли про неформальные институты, то есть про культуру. Мы научились считать, как меняется культура, видеть, где она составляет ограничение экономики, а где возможность развития. За последние годы мы вместе с Российской венчурной компанией даже стали создавать социокультурную карту регионов России, чтобы было понятно, в каких регионах и как стимулировать предпринимательство, инновационную деятельность, в целом какие методы менеджмента, оплаты применять в зависимости от ценностей и поведенческих установок людей. Это довольно операциональная штука – понимание того, как устроена культура. Это понимание я попробовал изложить в книге «Культурные коды экономики», которая вышла в 2021 году. Я иногда даже думаю: соединив это понимание с тем, что мы знаем про экономику, может быть, мы решим те проблемы, которые нам сейчас кажутся безнадежными.
Александр Аузан,декан экономического факультета МГУ,профессор, доктор экономических наук
Darmowy fragment się skończył.