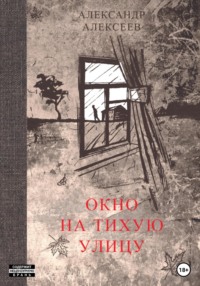Czytaj książkę: «Окно на тихую улицу»



* * *
Не верьте. Не верьте ученым, философам, писателям, не верьте политикам и бизнесменам. Не верьте националистам и космополитам, коммунистам и демократам, грешникам и праведникам. На свете не существует различных рас и национальностей, не существует бесчисленного разнообразия людей, есть только два верховных вида: человек-мужчина и человек-женщина. Две гармонии, порождающие при слиянии хаос, именуемый жизнью. Две единицы, при сложении дающие бесконечность. Плохо человеку, когда он один, ибо если один упадет, то некому поднять его, а если идут двое и один упадет, то второй поднимет его. Об этом говорится в Библии, об этом люди знали всегда всю свою жизнь. Знали и всегда искали, искали то свое второе слагаемое, которое и помогало выжить. Или ты находишь то свое, что делает тебя единственным числом, или растворяешься в общей массе, сливаешься с фоном и превращаешься в ничто, умираешь. Исчезаешь, аннигилируешь. Взрываешься, как метеорит от удара об землю, либо тихо исчезаешь, как упавшая на руку снежинка, почти никем не замеченный и не понятый.
Труп. И не один. Расследование. Записки сумасшедшей, воры в законе, проститутки, алкоголики, бывшие спортсмены, начинающие бизнесмены и старые комсомольские работники. Затравленные подкаблучники и убитые жизнью жены, сильные мужчины и женщины, которые их сильнее, герои-любовники и пьяные девки. И все это – в одном окне, окне дома на окраине промышленного провинциального города времен апофеоза перестройки. В окне, возле которого сидят двое. Те самые двое, о которых мы уже говорили. Эту часть дилогии Александра Алексеева можно было бы отнести к жанру психологического детектива. Но детектив получается странный. В классическом читатель на протяжении всего произведения пытается догадаться, как произошло убийство. Тут же нам предстоит понять, как все остальные остались живы. За счет чего? Как удалось не уйти в небытие бывшему журналисту и почему не погибла молодая врач из местной больницы? Что спасает людей в ситуации, когда все, весь мир вокруг стремительно летит в пропасть. Когда реальным и прочным остается только одно – маленькое окно, выходящее на тихую улицу.
Валерий Чумаков,писатель и журналист
Часть первая
Стучитесь, и вам откроется
Чтобы познать человека, нужно его полюбить.
Л. Фейербах
…любовь расщепляется на две несовместимые эмоции: нежные чувства и чувственность. Истерический характер не способен ни в какой степени связать эти две эмоции в единое чувство, направленное на одного человека
А. Лоуэн
Глава первая
Неведомый, волнующий 89-й
После затянувшейся зимы и холодного апреля, как взорвавшиеся на деревьях почки, распустились цветные грибки придорожных кафе. Появились забегаловки и магазинчики. Магазинчики не совсем обычные, тесные, набитые красивым товаром. И продавцы в них тоже необычные. Продавцы обращали внимание на покупателя! Они встречали входящего взглядом и даже спрашивали, чего он желает! Так что и входить без дела в такой магазинчик становилось совестно.
Пышно расцвела сфера услуг. Услуги определенные, услуги туманные, услуги на каждом шагу. Услуги, о которых мы когда-то не имели никакого представления!
Пестрела, ширилась печать. Периодические издания меняли клише и формат. Реклама вытесняла производственную проблематику. О политике заговорили эмоционально, как о спорте. Энергия и творчество, отпущенные на волю после 70 лет заключения, казались беспредельными.
* * *
Ах, боже мой, как красиво тогда спорили, в 89-м! Какие радужные, какие светлые перспективы тогда рисовали! А сколько рисовальщиков вдруг народилось! Даже пить люди стали меньше. Люди мечтали. И богатели мечтою! Как быстро, как сказочно все богатели! Никогда, никогда еще Русь не была так богата!
А как приятно было вести трезвые разговоры в мае, на фоне цветущих деревьев, в шуме порхающих птиц и шуршащих колес! Молодые осваивали новые столики, придирчиво всматривались друг в друга, осторожно знакомились. Молодые пили исключительно кофе, курили американские сигареты и учились считать деньги. В обиход вошел карманный калькулятор, а в лексику хлынули импортные слова. Молодые говорили.
Говорили громко о делах и о политике. Говорили в прессе и в эфире, на работе и дома, говорили в транспорте, в очередях, в кафе, говорили всюду. Говорили загораясь, говорили зажигая. Говорили и говорили. Только читать, к сожалению, стали меньше.
А вот если бы не стали меньше читать, то наверняка бы заметили появившуюся тогда на прилавках прекрасную книгу старого Монтеня с удивительно своевременным названием «Опыты». Да открыли бы главу «О суетности слов»! И прочли бы своими глазами о том, что государства, в которых господствовал твердый порядок, никогда не придавали большого значения ораторам, то есть говорильщикам. Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданских войн. На запущенном поле, утверждал мыслитель прошлого, пышнее всего разрастается сорняк!
Жаль все-таки, что меньше стали обращать внимание на книги.
Зато как красивы были молодые! А как они были одеты! Нет, сейчас молодежь одевается значительно хуже. Дороже, но хуже.
А какие драки тогда еще были! Хорошие драки, настоящие, со здоровым желанием помериться силушкой, утвердить себя, даже вступиться за кого-то! Разборок еще не было видно. Еще не было ухищрений, связанных с ними. Не было богатых, не было стрельбы и взрывов. Не было уличного изобилия и не было уличного страха. Много чего не было. Был еще порядок.
Но по улицам уже скользили «мерседесы». Правда, на них еще восторженно показывали пальцем, на них еще не смотрели с ненавистью. Привыкшие к общей собственности, мы любовались ими, как своими.
Престижными были не только дорогие машины, но и хорошие манеры. С машинами сравнивались женщины. И женщины хорошели. На глазах. Удивительно хорошели!
Что-то новое вошло в их жизнь. Модными стали цвета черный и красный – цвета ночи и страсти. Женщина в распахнутом пурпурном плаще, в узкой черной юбке с глубоким разрезом, освобождающим ее деловой шаг. Черные ажурные колготки и, конечно же, изящные алые туфли! Но все это, вместе с дорогими ароматами парфюма и яркими мазками макияжа, не шло ни в какое сравнение с ее взглядом. Взгляд встречной женщины стал выразительным и своенравным, каким-то дерзким и раскрепощенным и, может быть, даже бесстыжим.
Женщина как зеркало. В ней отражается все творящееся в обществе. Она первая реагирует на грядущие изменения, она тоньше чувствует их, больнее их переносит, сильнее страдает от них, и она же заставляет их быть!
Женщина так и остается нечитаной книгой. Книгой для мужчин, которые не только не умеют читать, но и не хотят учиться грамоте. Они все играют и играют в казаки-разбойники, как неразумные дети. И не видят, что беды творят не детские.
Глава вторая
Обстоятельства толкают нас друг к другу
Новорожденным забегаловкам и магазинчикам давали нежные, влекущие названия. Диана, Марина, Людмила, Оксана и прочие женские имена в одночасье превратились в модные вывески. И запестрели на пути у заметавшихся прохожих.
Однако местечко, где нас ожидают два интереснейших героя, относится, скорее, к разряду исключений. Ибо называется оно менее одушевленно и не так привлекательно – просто «Башня». Круглая будка, сложенная невесть каким мастером из красного кирпича. В будке металлическая дверь и зарешеченное окошко. В дверь заносят товар, в окошко его подают. Подают на площадку, где под желтыми зонтами ютятся четыре столика и пятнадцать стульев (ко времени нашего повествования один стульчик, к сожалению, уже был разбит на спине неудачливого коммерсанта по кличке Босяк).
«Башня» – престижное место. Рядом центральная гостиница, площадь Ленина с памятником, шикарный сквер, усеянный розами, декоративный пруд, фонтан – словом, центр.
Две юные и яркие, как луговые бабочки, особы скучают за крайним столиком. Они вяло курят, лениво ворошат кофейную гущу в опустевших своих чашках, время от времени одна из них отпускает реплики по поводу соседствующей компании.
Восемь шумных молодцов гнездятся рядом и во весь голос обсуждают жизненные проблемы, которые самым естественным образом упираются во всеобщий эквивалент – деньги.
Третий столик, оставшийся без стульев, служит пока складом грязной посуды. И последний занимают интересующие нас герои – Сергей Корбут и Александр Соболев. Между ними остывший кофе, пачка «Кэмела» и зажигалка.
Понедельник, полдень. Еще совсем недавно в эту пору молодежь если не работала, то хотя бы училась. А если кто и просиживал в кафе, то уж никак не говорил о таком:
– Мой ресторан в этом городе будет единственным приличным местом! Знаешь почему? Потому что попасть в него можно будет только по заявке. Никакая пьянь, никакая рвань во время вечера уже не вломится! Вот что главное! У меня будет играть скрипка, будет варьете! Я уже имею договор с артистами театра. Это будет элитный ресторан, богемный! Я создам островок! Понимаешь, это будет островок, где будут отдыхать деловые люди. Отдыхать и наслаждаться искусством! И без всякого быдла! Понимаешь? Меня уже тошнит от хамства и быдлости. Я сам вырос среди этого быдла. И теперь хочу этому быдлу противопоставить свой островок! Правда же, здорово?
Говорил Корбут. И, как всякий наивный человек, говорил горячо. При этом он широко размахивал дымящей сигаретой и больше глядел не в лицо собеседнику, а дальше, куда-то в сторону, туда, где скучали девицы. Самые удачные свои мысли он любил повторять с особым выражением, закатывая глаза вверх, будто на самих небесах искал подтверждение сказанному.
Соболев слушал молча. Непонимающе смотрел в лицо Корбута и тихо кивал, то ли в знак согласия с говорящим, то ли из сочувствия к нему. Казалось, он только и был занят тем, что рассматривал это лицо.
Смотреть на Корбута было и в самом деле приятно. Всегда свежая укладка жестких черных волос с лаковым отливом, обязательная выбритость с запахом какого-нибудь «Тайфуна» и заглядывающие в тебя маслянистые глаза с прищуром. И все это в безупречном дорогом костюме с обалденным галстуком и в черном распахнутом плаще. Головокружительный мужчина 27 лет. Очень приятный человек! Не случайно, видимо, Соболев все смотрел и смотрел на него.
Сам же он рядом с ним выглядел весьма и весьма серенько. Прическу его трудно было назвать прической – просто голова. Молчаливые, затуманенные усталостью глаза, продолжающие куда-то смотреть и смотреть. Губы, упорно сжатые и не желающие открыться ни для слова доброго, ни для улыбки. Еще потертые джинсы, старая куртка и обычная рубашка. И все.
Что могло быть общего между этими людьми? На первый взгляд ничего. Хотя на самом деле они друг другу были нужны. Да, да, все мы кому-то нужны. И нам кто-то нужен. Хотим мы этого или нет.

Соболев, в прошлом незаметный журналист, изгнанный из газеты за безделье, зарабатывал на жизнь строительством дачных каминов. Две недели назад он принял предложение Корбута отделать театральный ресторан. Корбут гарантировал в месяц 700 рублей. «Хотя гарантировать можно только смерть, все остальное зависит от обстоятельств!» – сам же при этом откровенно и пошутил. Очень, кстати, удачно.
Объект находился в центре, в подвале драматического театра, старейшего архитектурного сооружения города. Подвал, десятки лет служивший складом хлама, теперь и должен был превратиться в тот самый островок, о котором с таким жаром говорил Корбут. Дело это Соболеву пришлось по душе.
Тут, конечно, следует сказать о том, что, покончив с журналистикой, Соболев странно переменился. Случилось это неожиданно. Знакомые отметили в нем чрезмерную задумчивость, невесть откуда взявшуюся замкнутость и даже нелюдимость. И это в мужчине средних лет со здоровым интересом к прекрасному полу, в жизнерадостном и остроумном человеке, профессиональном журналисте! Действительно, что-то очень загадочное приключилось с нашим героем.
Однако пролить какой-либо свет на это обстоятельство никому не удалось. Сам же он, когда напивался, говорил о каком-то художнике, который умер в его душе, но которого недавно он встретил в пивной. Художник тот якобы открыл ему глаза на многие темные вещи, после чего сам покончил с собой. Объяснение, согласитесь, не менее темное.
Неудивительно, что странная перемена журналиста показалась странной даже его жене. И она в конце концов согласилась оформить развод. После чего укатила в свой родимый городишко с трехлетним сыном на руках.
Семейную драму Соболев перенес удивительно спокойно, я бы даже сказал, подозрительно легко. Тут же за какую-то плату у каких-то знакомых снял себе келью – вполне приличную двухкомнатную квартиру с телефоном, с удобствами и необходимой утварью. Перевез свои книги, письменный стол, любимый скрипучий диван и еще много всяческих мелочей, с которыми не захотел расстаться.
До встречи с Корбутом, до того как Корбут под предлогом производственной необходимости подселился к нему, он прожил здесь в совершенном одиночестве целый месяц. И ни одна женщина не переступила порог его квартиры. Зато в библиотеке прибавилось с десяток книг определенного философского уклона.
Нет сомнения, что с помощью таких друзей, как Ницше, Фрейд и Шопенгауэр, в мозгах простого газетчика что-то и произошло. Но это в лучшем случае. Люди, естественно, предположили не лучшее. «У Санечки крыша поехала», – уверенно заключила его прежняя подруга Аллочка, поняв, что ей уже не быть приглашенной в холостяцкую келью. Произнесла она это не для себя, а в присутствии общих знакомых, которые тут же с сочувствием закивали головами.
Я, конечно, не стану утверждать ничего подобного. Хотя бы потому, что у меня несколько иная заинтересованность в этом человеке, нежели у Аллочки, встреча с которой нам еще предстоит. А что касается его кельи, мы с вами очень скоро в нее заглянем.
Совершенно неожиданно в этот период Соболев стал рисовать. Неожиданно для себя. Для всех остальных никакой неожиданности не произошло. Потому что рисунки его мало кто увидел.
Первым его произведением стал портрет Данте, того самого титана Возрождения, что с первых строк своей великой Комедии признался:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу…
То есть, прожив тридцать с лишним лет, поэт вдруг понял, что жизнь его бессмысленна.
Получившийся портрет не был вариацией ни на один из образов Данте, созданных со времен Боттичелли и Рафаэля. Рука Соболева стала писать его неожиданно и самовольно, когда он, перечитывая «Божественную комедию», вдруг понял, что знает ее почти наизусть.
«Данте с тенью ада» – так же непроизвольно написалось и название нового образа. Суровый лик, иссушенный горьким хлебом чужбины, взгляд исподлобья, смотрящий насквозь. Взгляд глубокий, напряженный, налившийся кровью от вздувшихся на висках артерий. Взгляд человека смертного, но прошедшего то, что смертному пройти воспрещено. Очень сильный взгляд! Очень точный портрет получился, поверьте мне. Я его видел.
Однако сам автор оставался неудовлетворенным. Ему уже хотелось изваять образ титана из мрамора, из гранита, из бронзы. Ни много ни мало!
Иногда Соболев напивался, даже уходил в запой. И тогда он с надрывом говорил о какой-то утерянной красоте, о любви, не раскрывшейся, как парашют при падении, о нашей общей гибели, о том, что все мы уродливы, поскольку никто из нас не умеет любить. Красиво говорил, долго, по несколько дней говорил. Попросту лил свою душу неизвестно кому и непонятно зачем. Слушали его малознакомые алкаши у пивной, у магазина, в сомнительных квартирах и откровенных притонах.
Потом он выходил из запоя, переселялся в другой мир и становился вновь задумчивым и молчаливым.
* * *
Корбут, не дождавшись ответа, попытался прочесть его в глазах собеседника. Когда и этого ему не удалось, он неожиданно перешел к разговору предметному.
– Послушай, у тебя ведь остались связи в исполкоме? Понимаешь, если я не выбью материалы по госцене, мне нечем будет платить рабочим. Тебе же самому нужны деньги. Правда же?
– Естественно, – равнодушно отвечал Соболев.
– Ну вот видишь! Ты работаешь у меня две недели. Я должен, по идее, уже выплатить тебе аванс. А у меня нет свободных денег. Проклятая совдепия!
Вторым ругательством Корбута после быдла была совдепия. И слово это он употреблял так часто и с такой ненавистью, что в воображении слушателя невольно рисовались кровавые картины большевистской расправы над дворянским родом Корбутов. Хотя о корнях своих он не говорил никогда. Мало того, он давно уже оставил всех, кто знал его с детства. Он порвал не только со старой средой, но даже с самыми близкими людьми. Лишь раз он проговорился о собственной матери. «Этот человек, – сказал он о ней, – не может успокоиться из-за того, что сын ее (то есть он, Корбут) не стал примерным рабочим. Не таким, как папа или дедушка!»
Но кому не будет симпатичен молодой человек с таким бунтарским нравом, с такой энергией и решимостью, с какой он бросился строить себе новую жизнь!
Нет, близорук был Соболев, когда смотрел в его лицо. Не увидел в нем прекрасных мужественных черт. Не обратил внимания на выпирающие скулы и впалые щеки, которые живописали его суровый образ жизни. И не подумал о том, что могут рассказать о мужчине два прекраснейших надбровных шрама да перебитая переносица и еще след кастетного удара на челюсти! Не теми глазами смотрел Соболев. Иначе не был бы так равнодушен к этому человеку. И заговорил бы о проблемах красоты и любви именно с ним, а не с какими-то алкашами в пивной!
– Представляешь, какой абсурд! – продолжал разгоряченный Корбут. – Мне в банке дали ссуду, а я не могу ею воспользоваться! У меня на счету 80 тысяч! И я не могу ничего купить за наличный расчет. Наличные только на зарплату. Но подумай, Саша! Прикинь, если я буду платить рабочим, то нечем будет работать. И я буду просто платить за простой. Нет, это возможно только в совдепии!
И Корбут еще немного поругал общественную систему. Его собеседник оставался по-прежнему молчаливым и равнодушным. Только усталость читалась на его лице. Глаза помутнели, он задавленно зевнул.
– Ладно, выпьем еще по чашечке и пойдем, – сказал Корбут. – Надо все-таки что-то делать. Если нет цемента, так хоть мусор будем выносить. Но ты подумай, Саша, подумай. Может, вспомнишь кого-то из знакомых в исполкоме. Чтобы на базе взять материалы по перечислению. Сейчас я еще принесу кофейку.
И Корбут поднялся.
Нет, он не просто поднялся, это Соболев бы просто поднялся. Корбут сделал бесшумное изящное движение и явил на обозрение свой рост. Полы плаща словно дыханием ветра откинулись назад, и блестящий английский костюм стрелочкой вышагнул вперед. Черные итальянские туфли на мягкой платформе неслышно пересекли площадку и, вальяжно скрестившись, стали у башенного окошка.
– Игоречек, еще, пожалуйста, два кофе! – слегка опершись ладонью на подоконник, приятным баритоном произнес Корбут. Затем вынул портмоне, извлек из него хрустящий червонец. И лишь после этого позволил себе окинуть взглядом площадку. Но даже и тут он не просто вытаращился на присутствующих, а этак прошелся взглядом выше, над головами находящейся публики, словно и не видя никого, и захватывая всех.
Вроде и мелочь, пустяк незначительный, на который бы и места здесь тратить на стоило, а как девчонки на него посмотрели! Прямо впились в него глазами. Обе! Совершенно независимо одна от другой. Ничегошеньки при этом не сказав друг дружке! А уж если женщина в таком случае не обсуждает мужчину, значит… значит… Да что женщины! Двое молодых людей из-за шумного столика как-то непроизвольно покосились на него.
Соболев очередной раз подавил зевоту перед тем, как вернулся оживленный Корбут.
– Эх, Саша! – сказал Корбут с явным вдохновением. – Не знаю, но почему-то с тобой мне всегда хочется говорить о прекрасном! Хотя это не свойственно для моего грубого характера. Честное слово. Я родился и вырос там, где о красоте как-то, понимаешь ли, не совсем принято говорить.
Соболев неожиданно перебил его:
– И о чем же таком прекрасном тебе хотелось бы говорить?
Корбут напрягся и улыбнулся. По выражению лица, возникшему при этом, трудно было поверить, что мысли его сейчас сопряжены с прекрасным. Однако, повертев кофейную чашку, посверлив ее взглядом, он глубокомысленно произнес:
– Ну вот хотя бы кофе! Что может быть прекраснее чашечки кофе и хорошей сигаретки! Сидим мы тут с тобой, приятно беседуем, выпиваем чашечку…
– Уже третью! – опять перебил его Соболев. – А у меня, когда я перепью кофе, начинается неприятная дрожь в теле. Совершенно мерзкое состояние!
– Не, Саша, я ж тебе не за то! Ну, вот утром ты встаешь, завариваешь кофе, берешь сигаретку…
– Правильно, – совсем уже по-свински перебил его Соболев. – Раньше, бывало, встаешь, делаешь пробежку, зарядку, принимаешь холодный душ, завтракаешь – и целый день как на пружинах, как заведенный… А сейчас? Сейчас встал – кофе, сигарета – и опять хоть падай. Такое ощущение, что главное ты уже сделал. И ни сил, ни желаний в тебе уже нет.
И он с отвращением затушил свою сигарету.
– Са-аша! У тебя удивительная способность все опошлить!
Тут Соболев вскинул свою мефистофельскую бровь и изрек:
– Значит, мы с тобой говорим о пошлом, а не о прекрасном. Прекрасное, насколько я знаю, опошлить невозможно.
Корбут ничего не возразил, но, как бы в знак своего несогласия, тут же сделал затяжку с выражением полнейшего удовольствия на лице. После чего бросил на Соболева короткий испытующий взгляд. И проговорил вкрадчиво:
– Кстати, вчера встретил Лору. Влюблена в тебя, как кошка.
Не заметив никакой реакции, он продолжил:
– Я сказал ей, что она должна мне бутылку шампанского. За тебя. За то, что познакомил тебя с ней. Обещала поставить целый ящик.
Соболев едва заметно усмехнулся, но опять промолчал.
– Я вполне серьезно, Саша! Ящик, конечно, с нее не возьму, но бутылку шампанского и коньяк – это железно! А что? Если баба получает удовольствие, пускай платит! А что здесь такого?
Тут Соболев вяло ответил:
– Дополнительная статья дохода. Открой бюро знакомств и ты заработаешь наличку на стройматериалы.
Корбут сощурил глаз и проговорил:
– С женщинами, конечно, не проблема. Как с тобой договориться?
– Зачем тебе я? Тут ты прекрасно обойдешься без меня.
– Ну что ты, Саша! За меня, наверно, уж и пива никто не поставит.
Фраза эта хоть и далека была от искренности, однако явно свидетельствовала о волнующем Корбута предмете. Соболеву разговор явно не нравился. Он пытался остановить глаза на каком-нибудь постороннем лице, но взгляд почему-то соскальзывал на собеседника.
– Саша, хочешь, я отведу тебя к своему мастеру? – предложил Корбут. – Тебе только сделать стрижку, укладку, еще костюмчик хороший! И ты будешь неотразим. Бабы с ума посходят.
– Спасибо, Сережа, но лучше пусть они остаются при уме.
– Не, Саш, я серьезно. Я могу достать тебе хорошие шмотки.
– Спасибо.
– Не, ну ты ж сам знаешь, что в человеке все должно быть красиво – и одежда, и мысли…
– Да, да, Сережа! Только не красиво, а прекрасно! Хотя, наверное, ты прав. Ты даже не представляешь, как точно ты сейчас отразил положение вещей. Одежда и мысли! Зачем лицо? Зачем душа? Одежда и мысли! Одежда, чтобы на тебя смотрели. Мысли, чтобы раздобыть эту одежду!
– Не, ну я понимаю, сейчас не до этого, сейчас другие проблемы, нет денег. Но об этом надо думать всегда. Кстати, за бабки можешь не переживать. Я это сделаю тебе в счет зарплаты.
– Спасибо еще раз. Но в счет зарплаты я как-нибудь сам найду что сделать. Не утруждай себя.
– Смотри. Мое дело предложить.
Корбут, как человек прекраснейшей души, считал себя обязанным проявить заботу о товарище. Особенно с тех пор, как они стали жить вместе.
И он собрался сказать что-то еще, но внимание отвлекла неприятная сцена у столика с молодыми особами.
Пока происходил весь этот разговор, на площадке появилось новое лицо, которое не вписывалось в царящую здесь трезвую атмосферу. Некий молодой человек, неустойчивый на ногах, поинтересовался в окошке наличием спиртного. Получив отрицательный ответ, он обозрел присутствующих и, естественно, остановил свой глаз на девочках. После чего, так же естественно, пришвартовался к их столику. Девочки, у которых в глазах еще, быть может, отражался Корбут, не поняли этой естественности.
Пленившийся молодец подсел к ним, не сказав ни слова. Посмотрел на одну, затем на другую, причмокнул языком, крякнул и тыльной стороной ладони утер набежавшую слюну. Был он невелик, худощав, коротко острижен. Очень напоминал демобилизованного воина, в груди у которого стоял сумбур гражданских желаний, но способности их выражения еще не было никакой.
– Так вот, Эллочка… О чем мы говорили? – сказала одна, отворачиваясь от молодого человека и закуривая новую сигарету.
Однако другая, не обращая внимания на подругу, агрессивно затушила свою сигарету в чашке из-под кофе и уперла глазки в молодого человека. Затем брезгливо дернула верхней губой:
– Молодой человек, здесь занято!
Отставник воспринял командный тон, но, не обнаружив перед собой никаких знаков воинского различия, нахмурился.
– А ты здесь чё, взводный старшина? Или начальник столовой? – сказал он вполне мирно и даже сделал попытку улыбнуться.
Но молодая особа почему-то вовсе озлилась:
– Я сказала, здесь занято! И тебе надо всего лишь свалить отсюда. Разговаривать не обязательно. Понял?
Подруга попыталась успокоить ее:
– Да оставь ты его, Элла!.. Пусть сидит.
Однако мужское достоинство уже было задето. И, как это часто случается у молодых людей, которые еще не любили женщин, а только хотели этого, он пришел в ярость. Глаза налились кровью, зубы заскрипели, кулаки сжались. Удара, правда, не последовало, но вырвавшиеся слова вполне его заменили:
– Да на фиг вы мне нужны, кошелки вы накрашенные!
Страшное, конечно, оскорбление для молодых женщин. И Эллочка выпалила:
– Ты, козел, вали отсюда, тебе сказали!
– Элла, ради бога, успокойся! – все еще пыталась образумить ее подруга.
– Она хочет, чтоб я ее успокоил! Коза драная, я из тебя чучело сделаю и на огород поставлю, чтоб воробьи подсолнухи не клевали!
Эта фраза, наверняка свидетельствующая о сельском происхождении говорившего, и долетела до ушей Корбута.
– Извини, Саша, – сказал он.
После чего спокойно поднялся и подошел к конфликтующему столику.
– Извините, девочки, – улыбнулся он.
Затем схватил парня за рукав и потащил его с площадки. Тот попытался возмутиться:
– Не понял!.. В чем дело?
– Сейчас поймешь.
И Корбут ударил. Ударил прямо в лицо. Пьяный пошатнулся, сделал несколько шагов назад и упал на краю площадки. При попытке подняться он получил еще один удар, опять же в лицо. На этот раз он свалился за площадку. Но и там ему подняться не удалось. Корбут следовал за ним, продолжая бить.
Терпевший поражение не оказывал никакого сопротивления, даже не успевал закрываться от ударов. Казалось, он совершенно не понимал, что с ним происходит. Лишь смотрел на бьющего округлившимися глазами, словно силился в нем кого-то узнать.
Корбут бил сильно и красиво. При каждом ударе полы его плаща крыльями взмывали вверх. Но костюм, галстук и прическа оставались безупречными. Лицо его при этом выражало не типичную для дерущегося озлобленность, а снисходительную и чуть надменную, как у наставника, доброжелательность. Даже в этой ситуации Корбут был великолепен! Девочки прямо горели от восторга. Точнее сказать, горела только дерзкая Эллочка. На лице ее миролюбивой подруги читался страх.
– Ну теперь ты понял? – сказал наконец Корбут.
Незадачливый скандалист ничего не ответил, собрал последние силы и, окровавленный, бежал с места действия.
Корбут не долго смотрел ему вслед. Повернулся и с достоинством отправился на свое место. Высунувшийся из окошка хозяин «Башни» с профессиональной услужливостью спросил:
– Еще кофейку?
– Спасибо, Игоречек, нет времени. В следующий раз.
– Тебе спасибо!.. За поддержание порядка.
Неожиданно и из притихшей мужской компании раздался голос:
– За что ты его так мало, Сережа?
– Он знает, – лаконично отвечал Корбут, не задерживая хода.
– Кто такой? – послышался приглушенный вопрос в той же компании.
– Наш человек. У него кабак в драмтеатре.
– Это тот, что в подвале отделывают?
– Ну да.
– Классное место.
Тем временем Эллочка грудью приподнялась над столиком и обратилась к проходящему Корбуту:
– Спасибо, молодой человек!
– Не за что, – ответил он и улыбнулся.
Однако останавливаться не стал и здесь.
Соболев встретил товарища равнодушным молчанием. Будто не в битву за женскую честь ходил тот, а отлучался по малой нужде. И Корбут не выдержал:
– Ты считаешь, я поступил неправильно?
Тень спокойного презрения легла на лицо Соболева.
– Я не люблю, когда бьют человека, – глухо сказал он.
Корбут горячо возразил:
– А я не люблю хамства! Я не люблю, когда в моем присутствии оскорбляют или унижают женщину! Я хочу это истребить!.. Насколько это в моих силах!
Соболев аж поморщился при этих словах. Корбут, к счастью, этого не видел. Он был слишком вдохновлен.
– Это же быдло, Саша, быдло! Оно понимает только кулак! Кулак!
– Кулак нельзя понять. Его можно бояться. Или не бояться.
– Саша, я хоть и моложе тебя на пять лет, но людей знаю не хуже.
– Не спорю. Тебе было интересно услышать мое мнение относительно твоего подвига, и я тебе его сказал. Спорить еще о чем-то так же глупо, как и драться.
Корбут усмехнулся и покачал головой.
– Тебя никак не угадаешь, Саша.
– Прежде чем угадывать кого-то, неплохо бы в себе разобраться.
Еще круче закачал головой Корбут.
– Да-а, трудно с тобой разговаривать. Не знаю, Саша, мы уже столько знакомы, а я, честно говоря, никак не могу тебя понять. С одной стороны, ты такой простой, а с другой… Даже не знаю.
– Выкинь ты это из головы, Сережа!
Однако выкинуть Сережа не согласился.
– Интересно, о чем ты говоришь с женщинами? У них с тобой, как я вижу, полное понимание.
И первый раз за все это время Соболев улыбнулся. Улыбка вышла искренняя и снисходительная, как у взрослого, когда тот слышит забавный вопрос ребенка.
– Знаешь… Есть у меня знакомый психоаналитик. Как-то он спросил: «Сколько лет ты женат?» Я сказал: «Шесть». – «А каким ласкательным словом ты обращался к жене в первый год?..» И я признался: «Моя девочка, малышка, крошка». «А как сейчас к ней обращаешься?» – продолжает он. «В общем-то, никак, – продолжаю признаваться я. – Большей частью “Эй!” или “Послушай!”». Тогда он и сказал, что мне лучше разойтись, пока не поздно. «Уже поздно, – говорю, – у нас ребенок». А он мне: «Семьдесят процентов наших семей несчастны в своих отношениях, но они держатся. И держатся только детьми, которые в конечном счете принимают на себя несчастье этих отношений!»