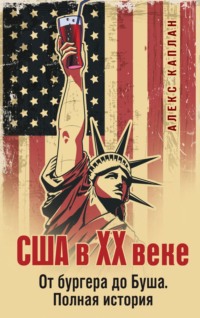Czytaj książkę: «США в XX веке. От бургера до Буша. Полная история»
© Каплан Алекс, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Глава 1. Накануне нового века (1870–1900)
Пятнадцатого февраля 1898 года в 21 час 40 минут в Гаванской бухте прогремел оглушительный взрыв. В центре города из окон вылетели все стекла, над бухтой же поднялось огромное облако густого черного дыма – на борту стоявшего на рейде американского броненосца Maine взорвалось пять тонн пороха. Броненосец прислали на Кубу, чтобы эвакуировать американских граждан, так как на острове ширились беспорядки. Корабль стремительно затонул, при этом две трети экипажа погибло. Причина взрыва на борту судна остается невыясненной и по сей день, однако в тот вечер в далекой Гаване Соединенные Штаты Америки волей жестокого случая сделали первый шаг на международной арене, с которой они уже не сойдут никогда. К концу XIX века Куба, расположенная в сотне с небольшим километров от полуострова Флорида, пребывала в крепких американских экономических руках, но де-факто все еще оставалась колонией Испании. Более того, растерявшая былое могущество Испанская империя считала Кубу не просто колонией, но своей провинцией. Далекий остров стал одним из последних форпостов увядающей метрополии, ведь если в начале XIX века Мадрид владел практически всей Латинской Америкой, то к концу столетия от некогда обширных колониальных владений остались только Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины да несколько островов в Тихом океане. В подобных обстоятельствах соседство с США не могло не оказать влияния на экономику Кубы, и на момент описываемых событий более 90 процентов товарооборота острова было ориентировано на Америку, при этом бо́льшая часть инвестиций также имела американские корни. На Кубе проживало немало американских граждан, а в соседней Флориде имелась большая кубинская диаспора. Иными словами, к концу XIX века связи между Кубой и США были куда более тесными, чем связи с очень далекой Испанией. К тому времени даже в сфере спортивных развлечений американский бейсбол сильно потеснил испанскую корриду. Америка для кубинцев представлялась страной передовой и прогрессивной, в то время как правившая на острове уже почти пятьсот лет Испания казалась неимоверно отсталой и крайне жестокой. Народные волнения на Кубе начались еще в 1868 году. Первая революция продлилась десять лет, и подавить ее Мадриду удалось с большим трудом. В 1895 году на острове началось второе восстание, во главе которого стояли поэт Хосе Марти и генерал Максимо Гомес. Хосе Марти погиб в одном из первых боев, обретя статус национального героя, но генерал Гомес успешно продолжал сопротивление испанским войскам. Тем временем в США у кубинских повстанцев неожиданно появились чрезвычайно могущественные союзники – Джозеф Пулитцер и Уильям Херст. Эти два главных газетчика Соединенных Штатов вели между собой ожесточенную борьбу за читателей. Именно они изобрели стиль журналистики, вошедший в историю под названием «желтая пресса». В погоне за покупателем они опускали нравственные рамки журналистики все ниже и ниже, каждый раз печатая все более шокирующие заголовки и нисколько не заботясь о правдивости изложенного ими материала. На тот момент времени в США набирал обороты «дикий капитализм», и ради победы над конкурентом в ход шли любые дозволенные и недозволенные средства. Практически каждая отрасль экономики – нефтяная, сталелитейная, железнодорожная – была полем битвы конкурирующих компаний. Не стала исключением и газетная индустрия. Когда на Кубе началось народное восстание против жестоких колониальных властей, Пулитцер и Херст развернули на страницах газет собственную войну, стараясь как можно более красочно описать зверства испанцев на Кубе. Газетчикам требовался сенсационный материал, от которого зависело их финансовое благосостояние. Заставить читателей раскупить тираж как горячие пирожки можно было, лишь придумывая сенсационные новости. В этом плане Кубинская революция стала идеальным информационным поводом. Американский народ, верный своим антиколониальным взглядам, испытав на себе тяжелый гнет британского сапога каких-то сто лет назад, поддерживал устремления кубинского народа освободиться от колониальных оков. К тому же испанцы действительно вели себя на острове невероятно жестоким образом. В 1895 году из Мадрида на Кубу прислали нового главнокомандующего, генерала Вейлера, так как его предшественник ничего не мог поделать с восставшими, как ни старался. Генерал быстро разобрался в тонкостях происходящего: у регулярной армии не имелось ни единого шанса победить партизан, поскольку те действовали исключительно из засады, при необходимости незаметно растворяясь среди местного населения. Новый главнокомандующий решил применить тактику, которую ему довелось наблюдать в США, где он служил военным атташе при испанском посольстве. Генерал северян Шерман во время Гражданской войны уничтожал партизан, отделяя их от народа посредством переселения фермеров в города – те, кто остался в открытом поле, считались партизанами, на которых безжалостно и успешно охотились. Генерал Вейлер переселил на подконтрольную властям территорию более 300 тысяч кубинских крестьян, лишив таким образом партизан значительной доли поддержки. С военной точки зрения операция оказалась удачной – испанские войска начали громить партизан по всему острову. Однако с пропагандистской точки зрения генерал потерпел страшное поражение – Куба была страной очень бедной, и средств на прокорм и переселение столь значительной массы людей, учитывая, что общая численность населения острова на тот момент не превышала 2 миллионов человек, катастрофически не хватало. Согнанных с родных мест крестьян размещали под военной охраной на окраинах городов, где их содержали в нечеловеческих условиях, подобно скоту, которому едва хватало пропитания. Впоследствии опыт этот переймут и англичане, применив его в ходе войн с бурами, а подобные поселения войдут в мировую историю под названием «концентрационные лагеря». Американская пресса просто взорвалась негодованием, когда новости о столь чудовищных преступлениях против кубинского народа дошли до США. Генерала Вейлера называли не иначе как злейшим врагом человечества, а карикатуры с его изображением не сходили с первых полос американских газет. Полностью разгромить кубинских партизан испанской армии все же не удалось, так как вскоре началось восстание на Филиппинах и часть войск пришлось перебросить с Кубы туда, но вот довести общественное мнение в США до состояния кипения генералу Вейлеру удалось как нельзя лучше.

Взрыв на борту броненосца «Мэн». Литография того времени
После взрыва на борту броненосца «Мэн» Америка, которую уже не один год волновал кубинский вопрос, не могла оставаться в стороне.
Хотя никаких доказательств того, что испанское правительство имело к гибели корабля какое-либо отношение, не существовало, американский народ проявил единодушие в своих обвинительных выводах. Газетчики неистовствовали. Известный корреспондент и иллюстратор Ремингтон писал с Кубы издателю Херсту, что никакой войны на острове нет. В ответ же он получил: «Ты мне дай рисунки, а я тебе дам войну». Первый бой произошел вечером 22 апреля 1898 года, когда военно-морской флот США обстрелял кубинское побережье. Двадцатого апреля президент Мак-Кинли подписал постановление конгресса с требованием предоставить Кубе независимость, после чего Мадриду отправили ультиматум, который Испания гордо проигнорировала. Через два дня опять заговорили пушки. Вероятно, войну начали бы еще раньше, вот только Америка оказалась к ней не готова. Во всей стране имелось всего 25 тысяч солдат и офицеров – такая «большая» у Вашингтона в те времена была армия. У Испании же только на Карибах дислоцировалось порядка 200 тысяч военных. Однако с проблемой США справились быстро – сотни тысяч добровольцев, готовых сражаться за свободу кубинского народа, явились на призывные пункты американской армии. В конце XIX века США были самой могущественной в экономическом плане страной на планете, а потому сколотить военный кулак для уничтожения противника неподалеку от своих берегов было делом несложным. Главная компонента – военно-морской флот, который нельзя было собрать за месяц, – у Вашингтона имелась. Американский флот уступал английскому и французскому, но значительно превосходил испанский, а потому исход Кубинской войны был предрешен. Через два с половиной месяца Куба освободилась от пятивекового испанского гнета, более чем на полвека попав в зависимость от США, которая закончилась в 1959 году посредством другой революции. И хотя основные политические страсти в те дни кипели вокруг Кубы, война с Испанией принесла США куда большие территориальные выгоды в бассейне Тихого океана. По итогам Парижского мирного соглашения, подписанного между Вашингтоном и Мадридом в декабре 1898 года, США отошли практически все колониальные владения Испании – Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам.
Победоносная война с Испанией стала для США важной внешнеполитической вехой, оформившей на международной арене подобающую Северо-Американским Соединенным Штатам роль. Экономическое могущество Америки к тому времени было уже совершенно подавляющим, но страна почти никак не участвовала в мировых делах, оставаясь на геополитической периферии человечества. Валовый внутренний продукт на душу населения к концу XIX века достигал в США почти 300 долларов, в то время как у ближайшего с экономической точки зрения конкурента – Великобритании – эта цифра не превышала 200 долларов. В Германии и Франции показатель этот составлял 100 долларов, а в России и Японии – менее 50. Несмотря на столь большое экономическое преимущество, Вашингтон на протяжении XIX века не участвовал в колониальных гонках Старого Света, в ходе которых Великобритания обзавелась почти 12 миллионами квадратных километров колониальных владений, Франция – 9 миллионами, Германия – 2,5. Были еще Бельгия, Португалия, Голландия, Австро-Венгрия, Россия, Италия. Практически у каждой европейской страны в конце XIX века имелись далекие или близкие, малые или большие колонии. Вашингтон за все эти годы приобрел лишь Гавайские острова. Небольшая группа американских граждан, выращивавшая на островах ананасы, устроила государственный переворот при содействии матросов зашедшего в столичный порт американского корабля. На всех Гавайских островах в те годы проживало от силы 50 тысяч человек – и единственной ценностью архипелага было его географическое расположение, позволявшее к тому же в изобилии выращивать тропические фрукты. Географическим преимуществом Гавайев США воспользовались во время Второй мировой войны, расположив на островах главную базу своих военно-морских сил. Здесь же родилась самая большая в мире корпорация по выращиванию фруктов и овощей – Dole Food Company. Интересен тот факт, что американских заговорщиков на Гавайях возглавил двоюродный брат основателя компании Сэнфорд Доул, исполнявший на тот момент обязанности адвоката королевы Лилиуокалани, которую он сверг с гавайского престола в 1893 году. В 1894 году господин Доул стал президентом Гавайской Республики, а в 1900 году, когда острова стали американской территорией, занял пост губернатора.

Отряд американских матросов, совершивших переворот на Гавайях
Участвовать в колониальных гонках с европейскими странами на протяжении XIX века США не могли по двум причинам. Будучи самой на то время демократической страной на планете, да к тому же в недавнем прошлом британской колонией, США смотрели на порабощение стран и народов как на противоестественный в политическом плане процесс развития государства. Хотя при этом в стране процветало в буквальном смысле слова средневековое рабство. С первых же дней своего существования США являлись страной невиданных дотоле противоречий и разногласий. Демократия и рабство уживались в одном и том же государстве на протяжении довольно долгого времени. Более вопиющих контрастов не существовало, пожалуй, нигде и никогда в современной истории человечества. Кроме возвышенных демократических устоев, не позволявших правительству принимать участие в колониальной гонке, имелись и куда более прагматичные причины воздержаться от участия в общем дележе мира – практически весь XIX век США и без того находились в состоянии беспрецедентной территориальной экспансии, вот только происходила она на североамериканском континенте. Америка была занята перевариванием огромных территорий Северной Америки, а потому ее колониализм был внутренним. Тут даже возникает серьезный вопрос: можно ли считать подобное явление колониализмом, ведь большая часть освоенных территорий никому не принадлежала? Те же территории, где проживали индейцы, были огромными по площади, но малонаселенными – обитавшие там племена были численностью в несколько тысяч человек. Единственный откровенно несправедливый захват территории США осуществили в 1848 году в ходе войны с Мексикой, но и эти отобранные у соседней страны земли были населены преимущественно американскими ковбоями, а не мексиканскими крестьянами. Огромные территории Луизианы и Аляски были куплены за деньги, а Калифорния освоена самостоятельно, так как до этого там вообще никто не проживал. Вопрос притеснения индейцев, коренного населения континента, подобно вопросу американского рабства, обсуждается в США уже очень давно и сильно зависит от того, какие взгляды – либеральные или консервативные – исповедует описывающий эти проблемы историк. Всеобщее зло обоих исторических феноменов в наше просвещенное время никто не оспаривает, но консервативные историки имеют тенденцию уделять им меньше внимания, в то время как историки либерального толка выдвигают явления эти на первый план своего повествования. Период внутренней экспансии, именуемый в США эпохой Дикого Запада, официально закончился только в 1912 году, когда последний на то время, 48-й по счету, американский штат – Аризона – вошел в состав Соединенных Штатов. К этому времени раздел колоний по всему миру по большому счету подошел к концу – делить уже было нечего. Вашингтону удалось лишь собрать испанские остатки co стола мирового колониализма.
Для Америки невмешательство в колониальный передел мира обернулось скорее благом, чем упущением. В 1861 году, когда в стране началась Гражданская война, Соединенные Штаты представляли собой разобщенное, не сильно развитое аграрное государство, которое к тому же раскололось на две части. После завершения войны наступила «Эпоха реконструкции». Страна пережила национальное и политическое единение – и только после этого начался период бурного экономического роста.

Карта с «Луизианской покупкой». Всего за 15 миллионов долларов в 1803 году Вашингтон приобрел у Парижа больше 2 миллионов квадратных километров земли – одну пятую современной территории США
Многие полагают, что тот индустриальный рывок, что совершили США в период с 1870 по 1900 год, был в истории страны самым большим. Из отсталой, политически расколотой аграрной страны Америка всего за одно поколение превратилась в передовое государство, развитое как в промышленном, так и в финансовом и экономическом плане, при этом далеко обогнав европейцев, поглощенных освоением колоний. Как показала дальнейшая история, такой ход государственного развития оказался куда более перспективным, хотя в нем и имелось немало изъянов. Этот период в жизни США получил название «Позолоченный век». Несколько саркастическое для столь знаменательной эпохи название придумал один из величайших американских писателей – Марк Твен. Именно под таким названием вышла в свет одна из его книг, в которой автор описал многочисленные гримасы «дикого капитализма», лихорадившего в те годы американское общество. Фразу Марка Твена подхватили пресса и политики. Вскоре ею уже вовсю пользовались и рядовые граждане для обозначения современной им эпохи. Имелось в виду, что под тонким слоем внешней позолоты прячутся ужасные общественные недостатки: всеобъемлющая коррупция, неимоверная жадность, крайняя жестокость, чванство, глупость, лицемерие и сильнейшее расслоение общества. В Америке наступил не «Золотой век», как вовсю трубили газеты, а лишь подернутый слоем позолоты насквозь прогнивший период в истории страны. Именно тогда в американском обществе зародились наиболее глубинные, дотоле невиданные разногласия и противоречия. Однако следует признать и тот факт, что в эти же годы произошел самый большой промышленный и научно-технический рывок в истории не только Соединенных Штатов, но и человечества в целом. Перечислять американские экономические достижения тех лет можно невероятно долго. Главным индустриальным локомотивом, унесшим страну стремительно вперед, стали железные дороги. С 1865 по 1900 год количество железнодорожных путей в Америке увеличилось с 35 тысяч миль до более 200 тысяч. Столь бурный рост транспортной отрасли самым радикальным образом и в самые короткие сроки изменил жизнь большой страны. Если раньше она была разрозненной из-за собственных масштабов, то теперь стала единой, а потому бурно экономически развивающейся. Проживающие в самых разных уголках североамериканского континента фермеры получили возможность распространять продукцию не только на региональном, но на на общенациональном уровне, что привело к быстрому созданию самого крупного рынка сельскохозяйственных и иных товаров в мире. Строительство железных дорог дало толчок развитию сталелитейной и машиностроительной отраслей, которые вскоре стали крупнейшими в мире. Появились и технологические новшества, стремительно менявшие облик огромной страны, – электричество, керосин, телефон, фондовая биржа быстро стали неотъемлемой частью жизни американского общества. Довольно скоро в технологическом плане Соединенные Штаты Америки опередили самые развитые страны Европы. Импорт промышленной продукции из Великобритании к концу XIX века практически прекратился, хотя еще десятилетием ранее значительную часть рельсов для строительства железных дорог приходилось приобретать в Англии.

Американские железные дороги были самыми протяженными в мире
Индустриальная революция и бурный экономический рост привели страну к серьезным политическим и социологическим изменениям, часть которых Марк Твен безжалостно высмеивал в своей книге «Позолоченный век». Всего за пару десятилетий в США появилось большое количество людей с колоссальными состояниями. Никто раньше и подумать не смел, что один человек мог сконцентрировать в своих руках подобные богатства. И таких людей постепенно становилось все больше и больше, пока практически вся страна не оказалась в собственности небольшого сообщества крайне состоятельных граждан. К концу XIX века 200 самых богатых семей Америки владели более чем 80 процентами богатств страны. Рокфеллеры и Карнеги, Морганы и Дюпоны всего за одно поколение создали фантастические по масштабу своему состояния, и часто практически с нуля. Рокфеллер, к примеру, основал крупнейшую в истории человечества нефтяную компанию Standart Oil, а Карнеги стоял у истоков самой большой на планете сталелитейной компании US Steel. Несмотря на то, что трудились они в разных отраслях, их объединяло нечто общее – на своем пути к успеху они сметали любые препятствия, действуя как законными, так и откровенно грязными методами, при этом нарушалось не только американское законодательство, но преступались общечеловеческие моральные нормы. По этой самой причине первые «олигархи» вошли в историю страны под нелицеприятным прозвищем «бароны-разбойники». Как и многие другие броские изречения того времени, новое американское политэкономическое понятие создали журналисты – в этот раз газеты New York Times. Одно из самых влиятельных печатных изданий Соединенных Штатов Америки, любовно прозванное в народе «Серой леди», однажды обрушилось с критикой на короля нью-йоркских железных дорог Корнелиуса Вандербильта за его абсолютно бесчестные деловые качества. Вот тогда и появилась впервые метафора о «баронах-разбойниках». Историческую параллель провели со средневековыми германскими рыцарями-феодалами, которые грабили всех, кто имел несчастье пройти через их земли. За проход по своей территории рыцари требовали плату. Таким образом журналисты саркастически сравнивали американских нуворишей, часто не имеющих никакого образования и происхождения, со средневековыми аристократами, добывавшими свои богатства грабежом на большой дороге. В случае с Вандербильтом дело происходило на железной дороге. Ирония американской истории заключается в том, что господин Вандербильт, несмотря на установленные им непомерные тарифы за проезд по Нью-Йорку, совершил большой вклад в развитие города, и памятники ему и по сей день представляют значимость для горожан и страны в целом. Центральный вокзал Нью-Йорка – фантастическое по красоте здание, и сегодня остающееся самым большим железнодорожным вокзалом в мире, – яркое тому доказательство.
И все же «бароны-разбойники» принесли Америке горе и разрушение, даже несмотря на тот факт, что в преклонном возрасте многие из них активно занимались благотворительностью. Потраченные ими на благо общества миллионы долларов влились в экономику уже в XX веке, а в конце XIX века ущерб американскому обществу и государству они нанесли невосполнимый. Подобно своре диких хищников, они рвали страну и народ на части, не переставая при этом враждовать между собой. На тот момент в Соединенных Штатах на них не нашлось никакой управы, и насквозь коррумпированное правительство молча наблюдало за происходящим. «Дикие» американские капиталисты в разгар «Позолоченной эпохи» скупили всю власть в стране – от самых захолустных муниципалитетов до конгресса и Белого дома, – а потому вершили свои дела без оглядки на кого-либо. Именно тогда в экономику вошло понятие монополии, и достигшие абсолютного господства в своей отрасли предприниматели, пользуясь положением, драли с населения три шкуры за производимые ими товары и услуги. Железнодорожные магнаты завышали цены на транспортировку сельскохозяйственной продукции, и фермеры, набравшие в период экономического бума кредитов и перешедшие на производство одной-двух культур для последующей продажи на общенациональном рынке, попали в расставленные сети. Лишенные возможности сбывать свою продукцию, они вынужденно платили тарифы, установленные транспортными монополистами. В то время как железнодорожные бароны продолжали богатеть, сельское хозяйство приходило во все больший упадок. Самый богатый человек в стране – нефтяник Рокфеллер – постепенно уничтожил практически всех своих конкурентов на просторах Америки, используя при этом самые бесчестные методы. Его жертвами стали не кучка коммерсантов, работавших в нефтяной отрасли, а вся страна до последнего гражданина. В то время керосин заменял людям электричество, и потому каждое утро десятки тысяч продавцов керосина, восседая на запряженной лошадью бочке с надписью Standart Oil, несли миллионам американцев свет – в буквальном смысле слова. Каждая такая бочка приносила Рокфеллеру прибыль намного большую, чем диктовали законы рынка, если бы они работали в Америке в тот период времени. Однако ни для Рокфеллера, ни для других «разбойников» законы были не писаны. Таким образом, монополии и олигархи всего за одно поколение стали в Америке обыденным явлением – феноменом, которого прежде ни в стране, ни в мире в целом не наблюдалось. Между тем рядовые граждане ненавидели сложившееся положение вещей, но поделать с этим ничего не могли. Олигархи купили Америку и владели ею – они крушили любую конкуренцию, проворачивали на бирже замысловатые аферы, обманывая миллионы инвесторов и вкладчиков, поощряли и множили коррупцию. Казалось, что в Америке им принадлежит практически все, что имеет хоть мало-мальскую ценность. Дошло до того, что они стали понукать правительство и указывать ему, куда следует посылать американский флот для защиты своих плантаций в Карибском бассейне, ведь у каждого магната имелась в активе целая свора купленных конгрессменов, адвокатов и местных политиков, готовых в любой момент уладить всякое недоразумение.

Карикатура того времени – «Пусть уже все украдут, и точка»
Наибольшей угрозой, исходившей от «баронов-разбойников» в адрес американского государства в канун XX века, стала угроза народной революции на фоне творящегося беспредела. Монополисты ведь не только завышали цены на свои товары и услуги, но и жесточайшим образом эксплуатировали работников ради еще большего увеличения прибылей. После разгрома Парижской коммуны в 1871 году во Франции наиболее опасная революционная обстановка сложилась, пожалуй, в 1880–1900 годах в Соединенных Штатах Америки. Стремительный скачок в развитии промышленности обеспечил Америке первое место по уровню экономического развития, и он же привел к возникновению в стране самого многочисленного в мире класса пролетариата, который к тому же оказался крайне организованным ввиду наличия широкого спектра гражданских свобод в США того времени. Однако этим беды крупного капитала не ограничивались. В Америку в конце XIX века хлынули миллионы эмигрантов из Европы. Эти люди зачастую отличались недюжинной силой и отчаянной смелостью – именно эти качества требовались для совершения опасного путешествия на другой конец света. Они и стали главной движущей силой набиравшего обороты рабочего движения, поскольку, прибыв в Америку без гроша в кармане, почти все без исключения оказывались на фабриках, где их нещадно эксплуатировали. Среди эмигрантов было немало профессиональных революционеров, вынужденных бежать от преследований у себя на родине. Иными словами, на американских заводах и фабриках довольно быстро сформировалась взрывоопасная революционная среда, готовая в любой момент полыхнуть под напором жестоких обстоятельств. Обстоятельства тем временем сложились не в пользу простых тружеников – монополисты и крупные капиталисты чувствовали себя полными хозяевами в стране, которой фактически владели, но корень зла крылся в крайнем цинизме и жестокости тех немногих, от кого зависели жизни миллионов. Когда на пути крупного капитала встали рабочие, коих считали неким приложением к фабрикам и заводам, то их просто попытались стереть в порошок – уничтожить, как ранее в борьбе за прибыль уничтожали конкурентов. Детективное агентство Пинкертона в конце XIX века стало крупнейшим в мире предприятием своего рода, в котором имелось больше штыков, чем в армии США. Чтобы подавить забастовку на заводе, требовалось всего лишь нанять новых рабочих, готовых трудиться за меньшие деньги, однако провести штрейкбрехеров на предприятие можно было лишь под усиленной охраной вооруженных до зубов пинкертонов, способных крушить всех на своем пути не задумываясь, если на то был приказ начальства. К середине 80-х годов XIX столетия Америка превратилась в огромное поле битвы между рабочим классом и крупным капиталом. Забастовки, штрейкбрехеры, пинкертоны, газеты. Политическая обстановка в стране накалялась даже более быстрыми темпами, чем шла индустриализация. Рабочие боролись за повышение заработной платы и за улучшение условий труда. Затем появился лозунг о восьмичасовом рабочем дне при сохранении оплаты труда на том же уровне, что возмутило капиталистов до крайности. Такое требование они посчитали настоящим рэкетом, а в нем они разбирались, ведь сами же явление это изобрели. Введение восьмичасового рабочего дня, тогда как привычный рабочий день длился 12–15 часов, грозило ужасными убытками – на кону стояли огромные финансовые средства. Развернулась ожесточенная борьба за перераспределение капитала, к тому времени полностью экспроприированного «баронами-разбойниками». И в этой борьбе государство в значительной степени оказалось над схваткой. На улицах американских городов шли настоящие сражения между рабочими и пинкертонами, крупный капитал боролся за столом переговоров с профсоюзами, государство не вмешивалось. Однако общество закипало все больше и больше, до социального взрыва оставалось совсем недолго.

Штрейкбрехеры под охраной пинкертонов идут на работу через толпу бастующих
Первый взрыв прогремел в мае 1886 года в Чикаго. Тогда на площади Хэймаркет в центре города во время демонстрации рабочих взорвали бомбу. Первого мая 1886 года по всей Америке прокатилась массовая забастовка трудящихся, в которой приняли участие около 400 тысяч человек. Самыми многочисленными стали выступления рабочих в Чикаго. Обстановка в городе после проведения демонстрации оставалась довольно напряженной, поскольку рабочие, увидев свою силу, находились в приподнятом настроении и готовились продолжить борьбу при первой же возможности. Случай представился уже 3 мая. С февраля месяца на заводе Маккормика шла война между хозяевами и профсоюзом. Третьего мая произошло ожесточенное столкновение между рабочими и полицией, открывшей огонь по демонстрантам. Два человека погибли. Местные анархисты, самые из всех американских революционеров задиристые, немедленно напечатали листовки с призывом выйти на акцию протеста на следующий день. Причем в первой версии листовки речь шла о необходимости вооружиться. Один из лидеров анархистов, увидев в тексте слова об оружии, потребовал немедленно изъять листовки и напечатать более умеренный призыв. Несмотря на царившее в обществе напряжение, состоявшаяся на следующий день демонстрация на площади Хэймаркет началась как мирный протест. Людей собралось не так много – всего около 2 тысяч человек. На трибуне местные анархисты сменялись местными социалистами с речами о справедливости и восьмичасовом рабочем дне. Ничто не предвещало беды. На площадь приехал мэр Чикаго – посмотреть на обстановку, – и, не увидев ничего такого, что могло бы представлять опасность, он спокойно отправился домой. Вскоре пошел дождь, и люди стали постепенно расходиться. В этот момент капитан полиции, командовавший отрядом стражей порядка на площади, подошел к выступающему на трибуне анархисту и именем закона приказал заканчивать митинг. На часах было 22:30. Демонстранты начали слабо возражать, понимая при этом, что уже поздно и все равно пора расходиться, но полицейская колонна начала движение с целью разогнать людей. В этот момент кто-то, оставшийся неизвестным по сей день, бросил в полицейских бомбу. Вокруг воцарились хаос и паника. Раздались первые выстрелы. Кто и в кого стрелял первым, выяснить так и не удалось – настолько серьезной была паника. У демонстрантов имелось оружие, не исключено, что некоторые из них стреляли в полицию, но все же бойню в тот вечер устроили полицейские. Они стреляли в спину убегавшим, и уже через пять минут на площади не осталось ни одной живой души. Четверо демонстрантов были убиты, около 70 получили ранения. Погибли также и семеро полицейских. Стычки между рабочими и полицией, а еще чаще с пинкертонами, происходили в те годы повсеместно, и количество жертв в них бывало намного большим, чем в результате событий на площади Хэймаркет, однако именно инцидент в Чикаго стал одним из самых в истории США печально известных. Большая часть желтых газет, а именно они правили бал в американской прессе, на следующий день обрушились с нападками на «врагов нации». Виноватыми сделали анархистов, и без того имевших не совсем хорошую репутацию в обществе. К тому же многие из них были недавними эмигрантами, что значительно упрощало задачу – их пустили в страну, и какова благодарность… Если им здесь не нравится, пусть убираются в свои Италии, Ирландии и России, где царит нищета и ужас. Мало того что возмутители порядка были иностранцами, они еще и протестантами не были, а католиками или евреями. После бунта на Хэймаркете, как окрестила события в Чикаго желтая пресса, в стране началась «охота на красных ведьм» – первая в истории США, но далеко не последняя. Уже на следующий день, 5 мая, в Чикаго арестовали сотни активистов рабочего движения и разгромили газеты левого толка. Больше всех досталось анархистам, у которых к тому же нашли несколько самодельных бомб, после чего полицейская истерия достигла беспрецедентных высот. По обвинению в устройстве взрыва на площади Хэймаркет арестовали восемь видных анархистов, многие из которых в тот день выступали и находились на трибуне на глазах у демонстрантов, а потому бросить бомбу никак не могли. Суд над обвиняемыми превратился в судилище, а расследование инцидента – в фарс. Вскоре начался разгром рабочего движения по всей стране, вот только репрессии привели к прямо противоположному результату – разрозненное и хаотичное рабочее движение начало объединяться и консолидироваться. Оно стало расти и заняло куда более воинственные позиции. Когда в 1889 году в Париже собрался Первый съезд Второго интернационала, американские социалисты предложили объявить 1 мая праздником рабочей солидарности по всему миру. Предложение было принято, постановление сделано. И уже в следующем, 1890, году первомайские демонстрации состоялись во многих крупных городах мира. Успех был колоссальный, явка демонстрантов превысила ожидания, и передовицы всех крупнейших газет мира только об этом событии и писали. Накал классовой борьбы в США достиг своего пика.